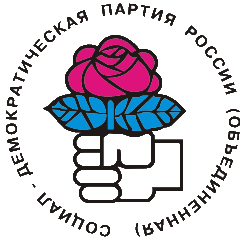|
|
СФЕРА
ЦЕЛЬ - НИЧТО! ДВИЖЕНИЕ - ВСЁ!
ИЗДАНИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ, СОЦИАЛИСТОВ-НАРОДНИКОВ, РЕЛИГИОЗНЫХ СОЦИАЛИСТОВ И ИМ СОЧУСТВУЮЩИХ
НАШ АДРЕС: МОСКОВСКАЯ,Д.92,К.4; САЙТ:HTPP://SFERA-SDPR.NAROD2.RU
|
|
|
8 МАРТА,ЖЕНЩИНЫ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ!Уважаемые женщины! Саратовские социал-демократы поздравляют Вас с Международным женским днём - 8 марта! Мы желаем Вам милым, красивым и любимым счастья, здоровья, радости, уважения, благополучия и новых творческих удач, долгих лет жизни. А какое событие стало толчком для празднования этой даты? Перенесёмся с Вами в 19 век. Соединённые Штаты Америки.Город миллионеров и бедных – Нью-Йорк. Здесь на ткацких и текстильных фабриках за мизерную зарплату по 16 часов в день трудились на местных толстосумов простые американки. Это положение очень их угнетало. И вот 8 марта 1857г. работницы Нью-Йорка вышли на городские улицы. В исторической литературе этот факт вошёл под названием «марша пустых кастрюль».Женщины вышли на свою протестную акцию не стихийно, что было присуще тем временам, а организованно и даже выдвинули свои экономические требования: сокращение рабочего дня, улучшение условий работы, равную с мужчинами заработную плату. Шли годы. Женщины стали организованнее и политически грамотнее. У них кроме экономических требований появились и политические требования. Многие женщины включились в рабочее движение, понимая, что только так они могут защитить свои права и интересы. 8 марта 1908г. в Нью-Йорке местная женская социал-демократическая организация призвала женщин выйти на митинг под лозунгами о равноправии всех женщин. Перед митингом было огромное шествие. 15 000 женщин шли по Нью-Йорку и несли плакаты со своими требованиями: сокращение рабочего дня и равных условий оплаты с мужчинами. Кроме того выдвигалось требование предоставления женщинам избирательного права. Впервые дата женского праздника была установлена в США. В 1909г. Социалистическая партия Америки объявила о праздновании национального женского дня. Его отмечали в последнее воскресенье февраля. Первое празднование выпало на 28 февраля. Эта традиция продержалась до 1913г. Следующая страница женского праздника связана непосредственно с мировым женским социалистическим рабочим движением и Вторым Интернационалом. Первая конференция Международного Социалистического интернационала женщин состоялась в Штутгарте, в Германии 17 августа 1907 года. В ней приняли участие пятьдесят восемь женщин из Европы, Индии и Японии. На этой конференции было принято решение о создании Международного женского секретариата во главе с Кларой Цеткин. Конференция приняла резолюцию о праве женщин на голосование, которое должно было стать отправной точкой неустанной борьбы за политические права женщин. В то время только женщины, в Новой Зеландии и Финляндии имели право голоса. На второй конференции, которая состоялась в Копенгагене, в Дании, 27 августа 1910 года, была принята резолюция, об учреждении Международного женского дня. В этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам: за право женщин голосовать и за политическую эмансипацию женщин. Конференция приняла также резолюцию о мире. В 1911 году первый Международный женский день отмечался в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии 19 марта. Эту дату предложила член ЦК СДПГ Елена Гринберг, в ознаменование Мартовской революции 1848 г. в Пруссии. В 1912 году состоялась внеочередная конференция в Базеле (Швейцария). Целью конференции были борьба за мир и прекращение войны на Балканах. В 1912 году этот день отмечался в тех же странах уже 12 мая. В 1913 году женщины митинговали во Франции и России — 2 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Голландии — 9 марта, в Германии — 12 марта. В 1914 году дата была окончательно установлена: 8 марта. На конференции выступила Клара Цеткин с речью, в которой призвала женщин бороться против войны, против капиталистической эксплуатации женщин. «Борьба против войны и борьбы за свободу, не может вестись без женщин »(Клара Цеткин). Женское социалистическое движение выдвинуло известные имена: социал-демократок Хелену Келлер, Розу Люксембург, Веру Засулич, Луизу Каутскую, Анжелику Балабанову, Любовь Аксельрод(Ортодокс), Лидию Дан, Веру Ванновскую и др.; эсерок Марию Спиридонову, Марию Школьник, Прасковью Ивановскую, Екатерину Брешко-Брешковскую, Елизавету Ковальскую, Надежду Брюллову-Шаскольскую и многих других. В Саратове известность получили сёстры-эсерки Вера, Нина, Анна и Надежда Аверкиевы, которые активно участвовали (вместе с братом Борисом, расстрелян большевиками в 1918г.), не только в русском революционном движении против царизма, но и против советского тоталитаризма. За пять лет борьбы за свои права женщины добились значительных успехов. К 1917г. женщины Австралии, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии завоевали себе частичное или полное право голоса. В России 23февраля(8 марта) 1917г. начались волнения в рабочих кварталах Петрограда. Первые забастовали женщины-работницы текстильных предприятий Выборгского района. Поддержанные питерскими социалистами женщины организовали процессию, где они потребовали женского равноправия и хлеба. События переросли в Февральскую революцию. В 1926г. женское рабочее движение было реорганизовано. Организация стала называться Международным социалистическим женским комитетом. Секретариат в Цюрихе возглавила Эдит Кеммис. С 1928 по 1934г. в этой должности работала Марта Тауск. Через год Секретариат был переведён в Брюссель. Алиса Пельс проработала во главе Секретариата до 1940г. Темы, которые поднимались женщинами на международных конференциях между двумя мировыми войнами, были весьма разнообразными: «Женщины и мировой экономический кризис», « Женщины и фашизм», «Женщины и мобилизация» и др. 8 марта 1941г. Мэри Сазерленд и британские женщины-работницы организовали празднование Международного женского дня, где выступили их подруги, бежавшие из стран с фашистскими режимами. Это была, в то время, последняя международная встреча женщин. В Европе, от берегов Атлантики до Волги гремели бои. Женщины наравне с мужчинами воевали в действующих армиях стран антигитлеровской коалиции, работали на промышленных предприятиях, транспорте и в сельском хозяйстве, сражались в подполье и партизанских отрядах советского и европейского Сопротивления. Нацистские палачи замучили в концлагерях социал-демократку Луизу Каутскую и эсерку Марию Скобцову-Караваеву(Мать Марию). Такая же горькая участь постигла и многих женщин из СССР и оккупированных стран Европы. В послевоенное время женское социалистическое движение возродилось. Оно называлось с 1948 по 1954 – Международным комитетом женщин-социалисток, с 1955 по 1978 – Международным советом женщин социал-демократок. В 1978г. организация стала называться Социалистическим интернационалом женщин. Современные женщины активно борются за свои права, за социальные и экономические интересы. А они заключаются в следующем: - повышение уровня образования женщин; - поддержание среди женщин высокого уровня занятости; - овладение ими новыми профессиями; - равный принцип оплаты женского труда наравне с оплатой труда женщин; - повышение социального обеспечения женщин; -привлечение женщин к выработке решений в экономике и политике; - более активное участие в профсоюзной деятельности; - улучшение положения женщин в семье; - ликвидация зависимости женщин от мужчин в семейной жизни; - улучшение медицинского обслуживания женщин; - всесторонняя охрана прав матерей; - повышение социального статуса женщин в обществе; -комплекс мер против понуждения женщин к проституции; - недопущение продажи женщин в рабство. В современном мире темой Международного женского дня являются: 2005 — «Равноправие женщин после 2005 года: за гарантированное будущее» 2006 — «Женщины в процессе принятия решений. Ответы на вызовы и осуществление перемен» 2007 — «Прекращение безнаказанности в случаях насилия в отношении женщин и девочек» 2008 — «Инвестирование в развитие женщин и девочек» 2009 — «Женщины и мужчины, сообща покончим с насилием в отношении женщин и девочек» 2010 — «Равные права, равные возможности: прогресс для всех» 2011 — «Равный доступ к образованию, профессиональной подготовке, достижениям науки и техники — путь к достойной работе для женщин» Современное социалистическое женское движение выдвинуло известных всему миру женщин: Индиру Ганди, Беназир Бхутто, Сеголен Руаяль, Мартин Обри, Гру Брундланд, Галину Ракитскую, Светлану Горячеву и многих других. В советскую эпоху этот день потерял политическую направленность. С 1966 Международный женский день стал праздником и нерабочим днём. Руководство СССР изменило смысл и сущность события. В сознание советских женщин внедрялось годами понятие «день всех женщин» или «праздник весны» и приобрёл современные черты. А в современной России появилось множество противников, критиков и недоброжелателей этого праздника. В частности Русская Православная Церковь. Церковь считает его «неуместным», так как он совпадает с Великим постом. «Традиция празднования 8 марта вошла в наш быт, но православные люди забывают и не забудут о том, что она связана с революционными движениями, которые принесли много страданий людям»( Глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин). А наша современная российская жизнь требует вернуть этому празднику первоначальную сущность. Сейчас, когда страну захлестнула массовая женская безработица, проституция и наркомания среди девочек, девушек и женщин, нарушение их социальных и экономических прав и свобод, продажа женщин в рабство, значительное число самоубийств, сведение до нуля статуса материнства, неуважение женщин в семьях, дискриминация чиновниками женщин по половому признаку, дискриминация женщин в семье со стороны мужчин и многие другие проблемы. И заканчивая своё поздравление, я хочу пригласить саратовских женщин, присоединится к современному российскому социалистическому демократическому рабочему движению и восстановить, отнятые олигархами, социальные и экономические права и свободы. С уважением к Вам, Лебедев Александр, координатор СТО СДПР. 4 марта 2013г. (Саратов, Московская,92,к. 4; т.27-77-17) |
|
|
МАНДЕЛЬБЕРГ В.Е. ИЗ ПЕРЕЖИТОГО.
Вместо предисловия. Бурно развивались Великая Российская Революция; неожиданны были ее подъемы, неожиданны были ее падения; и в грядущем еще немало неожиданностей она нам готовит. Мы знаем, что корни настоящего лежат в прошедшем, - но часто только в исторической перспективе устанавливается эта закономерность событий; только тогда выясняется неминуемость того, что казалось неожиданным; часто только тогда; когда время, как негодную шелуху, отметет то, в чем мы видели суть, и наоборот, резко подчеркнет опущенное нами, - только тогда вырисовывается железный остов закономерности. Но вместе со всем тем; что оказывается лишним, что погибает в Лете, как не гармонирующее с основными посылками, - погибает и живое тело пережитого. И потому, если для того чтобы ввести событие в цепь закономерности, установить для него гармонию меж следствием и причиной, - часто полезнее отойти от него на некоторое расстояние,- то для того; чтобы взять от него все, что оно может дать; чтобы этим событием обогатить свое миропонимание; чтобы из него почерпнуть все то (часто революционно разрушающее, казалось, незыблемо уже сложившееся миросозерцание, сложившиеся традиции), что дает опыт, этот самый могучий реактив на истинность, - для этого необходимо переживать события. Великая Российская Революция - это одно из самых серьезных переживаний, какие только имели место в жизни человечества. В необъятной по пространству и по числу населения стране, рушатся истлевшие, подгнившие нормы, зарождаются новые. Мы, кому выпало на долю счастие быть современниками этого великого события, а тем более те из нас, кто был участником этих бурных и великих дней, мы должны постараться оставить запечатленными все то, что пережили, что видели. Это будет тот материал, по которому те, кто придут после нас, постараются восстановить картины этого времени, которое еще долго будет привлекать к себе внимание человечества. Но, помимо того, и каждый из нас только в одном месте, в одном уголке России мог непосредственно переживать Революцию. Чтобы составить себе понятие о всей картине, нужно описание различных участников, - не говоря уже о том, что и самое описание будет различно в зависимости от различия точек и углов зрения: 2 участника одного и тогo же события часто очень различно понимают и переживают его. По счастливой случайности мне пришлось принять непосредственное участие или же быть свидетелем многих очень серьезных моментов переживаемой нами революции, - и я считаю полезным описать все то, «чему Господь свидетелем меня поставил». Буду описывать только то, что сам пережил, что сам видел. Начало Революции считают с 9 января 1905 года; но 9-ое января, дав могучий толчок накопившимся революционным силам и стремлениям, только вскрыло уже наличные течения в Петербургском пролетариате и других слоях населения Петербурга, - и потому, являясь подходящей датой для вехи в хронологии, - оно совершенно не подходящая дата для моей темы. Так как предлагаемое описание имеет характер по преимуществу субъективный, то я и начну со времени сознательного моего отношения к общественной жизни России.
ГЛАВА I. В Петербурге до 1898 года. (Смерть Александра III, культуртрегерская деятельность на Путиловском заводе, арест). В конце 1893 года молодым врачом, только что, получив диплом, выехал я из Киева в Петербург. Мало отрадных воспоминаний увозил я с собой из Киева. Моя гимназическая и университетская жизнь протекали в тяжелые годы царствования Александра III. Гимназия переживала в мое время (1877 - 1887 год) расцвет классицизма; нас душили латынью и греческим; знания нам преподносились в таком виде и при таких условиях, что собственно мы ничему в гимназии не обучались. Но это было бы еще с полбеды; главная, же 6еда состояла в том, что это была не воспитывающая ум и дух школа, даже не просвещающая - это было чисто бюрократическое учреждение ведомства Министерства Народного Просвещения. Меж учениками и начальством существовали самые сухие, бездушные, чиновничьи отношения. За всю мою гимназическую жизнь ни одного теплого чувства не возбудил во мне ни один из многочисленных преподавателей моих, ни одного радостного воспоминания ни один из них не оставил. Были некоторые учителя, в которых, казалось; чувствовалась живая душа, живое отношение, - но это никакого влияния на наши взаимные отношения не имело. Наоборот, чем лучше был учитель, тем дальше держали его, или он сам держался от учеников, тем меньше имел к ним отношения. Вся внутренняя жизнь гимназии, все сношения с учениками находились в ведении инспекции: инспектора с многочисленными педелями, надзирателями, классными наставниками. И все их отношение состояло лишь в том, что они надзирали; надзирали в гимназии, надзирали на улицах, даже дома. Тяжелое время! Мрачное время! Для меня его тяжесть усугублялась еще антисемитизмом, ибо это было время самого сильного расцвета начальственного, правительственного антисемитизма. Помню в 3-м, кажется, классе, когда я после летних каникул вернулся в гимназию, - я на перекличке узнаю, что я уже не Виктор, а Вигдор. Это был результат циркуляра из министерства, предписывающего, чтобы евреи именовались не христианскими, а своими еврейскими именами; и вот, в одной из моих бумаг нашли прописанным в скобках это имя, которым меня никогда никто не называл - вписали его мне. Тоже проделали и с другими, евреями. Понятно, эта наша метаморфоза послужила среди товарищей по классу поводом для насмешек; а так как ни мне, ни товарищам-христианам не были известны те глубокие политические цели, которые преследовал упомянутый циркуляр, то мы все объясняли его лишь желанием начальства поощрять эти насмешки. О! этот антисемитизм, раздуваемый среди гимназистов сверху! Как он отравил мою гимназическую жизнь! Не было простого, доверчивого отношения к товарищам! Вечно настороже, вечная боязнь насмешки! И в этих злых, чужих стенах гимназии протекло много больше половины моего детства... И потому не радостным теплым светом веет от всех моих детских воспоминаний; нет! тяжелым кошмаром давит их и до сих пор это громадное казенное здание с длинными коридорами, вечно подстерегающие педеля, надзирателя и все это начальство, тебя только терпящее, относящееся к тебе со скрытой нелюбовью, норовящее обидеть, оскорбить тебя! Как все это тогда ожесточало, как делало больно, как тяжело давило детскую душу! И как же ненавидел я гимназию! С тех пор, как я получил аттестат зрелости и вышел из здания гимназии, - ни разу не переступил я порога его. И это несмотря на то, что в течение целого ряда лет я ежедневно проходил мимо. И теперь я с тем же чувством, как и в 1-й день своего освобождения, посылаю проклятия этому учреждению, сгубившему мое детство, отнявшему у меня самое счастливое время жизни. Студенчество тоже мало светлых воспоминаний оставило во мне. Оно протекало во время все усиливающейся реакции (с 1887-1893 г). В 86 г. была введена форма, с моим поступлением в 87 г. введена была % норма для евреев, - от устава 63 г. остались лишь воспоминания; университет сильно напоминал гимназию; такие же педеля везде, субинспектора; следящие за студентами. В первые годы моего студенчества у нас в Киеве было особенно мрачно, так как только за 2 года до моего поступления, в 1885 году, Киевский Университет пережил знаменитые в свое время т. н. юбилейные беспорядки (во время университетского юбилея). Тогда уволили всех студентов и принимали обратно с большим выбором; самых живых, интересных, понятно, не приняли, и Университет был надолго успокоен». Никаких революционных организаций я среди студентов тогда найти не мог, хотя не только не избегал этого, но даже искал. Если они и были, то, очевидно, были загнаны в самое глухое подполье. Была только еврейская национальная студенческая организация, но занималась она исключительно взаимопомощью. Только к концу моей студенческой жизни, когда я уже был на 5-м курс, началось в университете некоторое оживление; студенчество начало организовываться; появились кружки; кружки эти, главным образом, занимались чтением; тот, в который попал я, читал, помню, «Рабочий вопрос» Ланге. Но успели мы собраться только несколько раз: лекции закончились; пришла холера, в борьбе с которой я студентом 5 курса принял участие. А затем экзамены. И вот, я получил диплом врача и еду в Петербург. Точных планов на счет будущего у меня не было; определенных политических убеждений я не имел; за все время студенчества из «нелегальных» книг я прочел только 2-3 случайно попавшиеся мне брошюры. Одним из первых серьезных толчков, имевших на меня влияние, был начинавший тогда будировать легальный марксизм. Со смутным еще представлением о марксизме, но с вполне определенными симпатиями и интересом именно к рабочему вопросу; с полным незнакомством по части программ и разновидностей наших революционных партий, но с непреодолимым стремлением принять участие в борьбе, - ехал я в Петербург. * * * Это было как раз время, когда захворал Александр III. На одной из станций, помню, наш поезд задержали дольше обыкновенного; кондуктор с жандармом обошли все вагоны, заперли все окна и двери, выходящие налево, и запретили отворять их: Александр III ехал лечиться. Вскоре Александр III умер, на престол вступил Николай II, и целым роем зароились среди всех слоев населения всевозможные «несбыточные, бессмысленные мечтания»: точно исчезла вся и всех давившая тяжелая пята. И первые дни нового царствования, казалось, были и основания для этих «мечтаний». Обыватель видел то, чего ему так страшно хотелось. С восторгом и радостью ловили всякие слухи, сулившие перемены в режиме; доказательства этой грядущей перемены видели во всех и всяких мелочах: «Государь ходит пешком без свиты по Невскому!»Передавали, как факт, что видели, как Государь зашел на Невском в магазин и купил перчатки и этим слухом жил весь Петербург, о нем говорили везде и повсюду... И понятно, почему все это казалось столь лучезарно новым: ведь Александр III никогда без конвоя и свиты не показывался, и видеть его можно было только сквозь частокол штыков и цепь шпионов. А затем пришла и свобода Николая II. Я был в той толпе, что окружала экипаж Государя, когда он с молодой женой ехал из Казанского Собора в Аничкин дворец; экипаж без конвоя медленно двигался среди шумной, радостно возбужденной толпы; только впереди маленький отряд конной гвардии прокладывал ему путь; народ восторженными криками встречал новобрачных, чуть не на подножки экипажа вскакивали. И об этой картине вспомнил я несколько лет спустя, когда 9 января 1905 года очутился в такой же толпе, на том же Невском: это было сейчас же после залпа в народ у Зимнего дворца... Другие были здесь возгласы, другие крики! Но и тогда уже очень скоро увяли эти надежды. Действительность быстро рассеяла все эти бессмысленные мечтания. И пошло все по старому; если еще не хуже. * * * После моего ареста все это было уничтожено, раздавлено. Эти блуждания с рабочими вокруг да около; они меня вскоре перестали удовлетворять; они меня стесняли, оскорбляли: все настойчивее чувствовал я потребность говорить с ними просто, ясно; говорить все, что думаю, все, что знаю, - и я видел; что именно этого они просят, ждут. Я наметил себе среди своих знакомых по библиотеке рабочих группу человек в 10-12 и решил сойтись с ними ближе и встречаться в таких условиях, где мы могли бы разговаривать не намеками, аллегорией, с опаской, - а откровенно, на чистоту. Ни в какой организационной связи, ни с какой революционной организацией я в то время (1897), не состоял - да и не хотел вступать. Тогда много было арестов, я постоянно слыхал о провалах, предателях и думал, что гораздо лучше в этом отношении партизанская тактика. Если я работаю один, - я завишу только от себя, - а вступив в организацию, я уже завишу от неосторожности совершенно мне неизвестных людей. Да и та работа, которую я хотел делать, работа пропагандиста, не требовала, казалось мне; организации; так как я не нуждался ни в чьей помощи. Но в это время, когда я уже все почти подготовил, случилось одно происшествие, разбившее эти планы и имевшее громадное влияние на всю мою дальнейшую жизнь. Одна знакомая курсистка обратилась ко мне с просьбой предоставить мою квартиру пропагандисту для занятий с рабочими. Я с удовольствием согласился, так как прежде; чем самому заняться этим делом, хотел ближе присмотреться, как это делают другие. В ближайшую субботу пришло ко мне человек 10 молодых парней; это были рабочие Колпинскаго завода. Я жил тогда в ротах Измайловского полка и они должны были проехать из ст. Колпино по железной дороге до Петербурга, затем бежать ко мне от Николаевского вокзала - все это для того, чтобы поговорить часа 2 с человеком, которому верят и от которого рассчитывают услышать слово правды. Пришел на занятия и пропагандиста, молодой студент. Читали вслух статью из «Нового Слова» - тогдашнего органа легального марксизма; часто останавливались; студент давал очень толковый объяснения; рабочие слушали с интересом, внимательно. По окончании занятий некоторые остались посидеть еще, и я с ними ближе познакомился. * * * - «Вы д-р М.?» - спросил меня пристав. -«Я!» - «По предписание охранного отделения я должен произвести обыск у вас и у тех, кого у вас застану». Я потребовал предъявления этого предписания, но он заявил, что, так как это его участок, где все его знают и должны знать, то предписания ему показывать не нужно. Никакие рассуждения и протесты не помогли, и он приступил к обыску. Гостей моих всех обыскали, затем отправили в участок и в ту же ночь у всех их произвели обыски на дому и те, у кого находили хоть одну нелегальную книгу, арестовывались. Даже у начальника конторы Путиловскаго завода, отставного полковника, человека самого «благонадежного», - до того благонадежного, что градоначальник утвердил его попечителем нашей Путиловской библиотеки, т. е. признал возможным доверить ему надзор за ней, - даже его продержали несколько часов в участке; а затем произвели обыск у него на дому. У меня искали очень тщательно: не только постель перерыли, но даже золу из печи повыскребли; особенно старались и усердствовали господа «понятые»; пристав, руководивший обыском, то и дело умерял их усердие; он лично был настроен добродушно. Встречая какую-нибудь книгу по социологии или политической экономии - а особенно нелегальную книжку (их у меня оказалось 3-4) он тяжело вздыхал. - «И охота Вам заниматься такими вещами», - сказал он мне по окончании обыска - «когда перед Вами такое широкое и интересное поле занятий, как медицина? У меня сын в Медицинской Академии» - пояснил он мне свое сочувствие. Я поинтересовался узнать, что он намерен проделать со мной, но оказалось, что это зависит от «полковника», который должен сейчас прибыть. Часов около 3-х явился «полковник». - «Вы меня арестуете?» - спросил я его, когда он прочел протокол обыска. - «Да! приказ таков. Куда Вы предпочитаете, в охранку или в Дом Предварит. Заключения?» Мне эти названия ничего не говорили. -«Какая разница?» - спрашивал я его. - «Видите ли, в охранке, пожалуй, лучше, но в Доме Предварит. Заключения больше почета!» -«Ну, я таким путем почета не ищу». * * * - Ну-с, господин доктор, рассказывайте!» - «Что рассказывать?» - А все! Все подробно, откровенно!» - «Но, что, же все?» - Я действительно не знал, что собственно ставится мне в вину; за что меня арестовали. О двух посещениях рабочих я совершенно забыл и думал, что здесь произошла какая-нибудь ошибка или же все это из-за моей работы на Путиловском заводе, каких-нибудь случайных разговоров, знакомств. - «Так-с»! говорит жандарм. - «А скажите; пожалуйста, зачем к Вам ходят рабочие из Колпино?» - и при этом инквизиторский взгляд. - «Какие рабочие?» - спрашиваю я в изумлении. - «Вот как! Значит, Вы не желаете говорить: значит, Вы, против правительства!» Я молчал; я узнал то, что мне нужно было, и успокоился: дело не могло быть серьезным. А он продолжал. Мое молчание он счел за раздумье и потому, решив наддать, он начал говорить о еврейском вопросе. - «Почему так много евреев среди социалистов? И совершенно напрасно занимаются евреи социализмом: этим они страшный вред приносят своим единоверцам, так как именно этим обусловливаются все правительственные мероприятия против евреев». Я молчал. Что мог я ему сказать на это? или правильнее, - что понял бы он из того, что я мог бы ему возразить? А он, поощряемый моим молчанием, решил УСИЛИТЬ натиск, решил оскорбить. - «Впрочем, это понятно, почему среди еврейской интеллигенции так много социалистов, ведь у Вас нет ни религии, ни отечества». На этот раз он своего добился; я, еще совершенно неопытный в разговорах с такими господами, рассердился. - «На счет религии мы оставим, об этом долго было бы разговаривать; - но на счет «отечества», так ведь те, кто делают то, что Вам не нравится, именно из любви к отечеству это делают. Они, может быть, по Вашему мнению, ошибочно, но именно этим думают принести пользу отечеству». Вероятно, редко, кто с ним вступал в беседу, или же он хотел узнать ближе, кто я, и потому он не унимался и начал доказывать, почему это ошибочно. - «Вы думаете, почему я жандарм? По убеждению!» Я выразил по этому поводу некоторое изумление, - и сказал, что до сих пор я не предполагал этого. Ему это не понравилось, и он начал рассказывать о каторжном труде жандармов. Действительно, было уже 5 часов утра, а его поминутно звали к телефону, он получал какие-то донесения, отдавал приказания. В эту ночь (10 января 1898 г.), как я узнал впоследствии, он произвел громадную облаву, сделал около 100 обысков и арестов. - «Ну-с, расскажите же все подробно!» закончил он, наконец. Я только улыбнулся. - «Мне Вам нечего рассказывать!» Это его взорвало. Он увидал, что ошибся, что даром потерял на меня так много времени. И, рассердившись, он сказал то, чего я долго потом в тюрьме не мог забыть. - «Вы улыбаетесь?! Хорошо! Посидите в тюрьме, и улыбаться перестанете! Вам весело там не будет!» Он позвонил, и меня увели в мою камеру, а через 1/4 часа пришли и опять куда-то повезли на извозчике. * * * -«Получайте арестанта!» - сказал мой спутник. Меня записали, обыскали еще раз, отняли часы, деньги, ножик, подтяжки и опять повели по лестницам; переходам, мимо целого ряда дверей с номерами; остановились мы у № 133. Шедший со мной надзиратель загромыхал ключами и открыл дверь. - «Это будет ваша камера!» - сказал он. Я вошел. Он захлопнул дверь; опять загромыхал ключами. Затем щелкнул раз, другой, - и я остался один. Первое, что я почувствовал - это радость, что; наконец, я один и меня оставили в покое. Я сделал несколько шагов по камере и осмотрелся: маленькая конура, длиной шагов 6 , шириной шага 3; железная дверь с круглым окошечком; у стены койка, против нее столик, привинченный к стене и сидевшие; в углу отхожее место и водопровод, высоко - маленькое окошко с решеткой; пол каменный. Так вот, она моя настоящая квартира! На какое время? Сколько я в ней пробуду? Недели? Месяцы? Годы? Об этом я не имел решительно никакого представления. Хотя я знал, что никаких серьезных преступлений за мной не было, но я в то же время совершенно не имел никакого представления о процедуре политического процесса, ареста; я еще ни разу не сталкивался с сидевшими в тюрьме и, в общем, все представлял себе много хуже, чем оно оказалось впоследствии. Но в данный момент меня это мало беспокоило. Единственное, чего я желал, это чтобы меня не тревожили и, бросившись на койку, я с облегчением вздохнул...
ГЛАВА I I. В тюрьме. И потекла тихая, однообразная тюремная жизнь. Однообразное и почти полное отсутствие, впечатавши, приспособляют к себе психику заключенного: сжимается содержание желаний; пропадает перспектива, маленькие обстоятельства, незначительные события вырастают до степени серьезнейших; важных происшествий. Приход надзирателя не в очередь, шум неурочный, нечаянная встреча с товарищем заключенным – страшно волнуют, возбуждают. Самым серьезным, важным событием в жизни дня была прогулка. Не только потому, что во время прогулки приятно было походить на свежем воздухе - а воздух на прогулке казался мне поразительно освежающим, хотя гуляли мы на тюремном дворе, со всех сторон окруженном тюремными постройками и ни одного деревца на нем не было, - интерес возбуждала прогулка, главным образом, открывающейся перспективой разнообразных возможностей, случайных встреч. Гуляли мы, как я уже сказал, на тюремном дворе; здесь стояла небольшая башенка с балконом; от башенки радиусами расходились сплошные деревянные заборы, окруженные снаружи деревянной решеткой; таким образом, получались закрытые сегменты длиной в 13 шагов, куда нас из башенки впускали, в каждый по одному, через маленькую дверку. По балкончику башенки во все время прогулки ходили гуськом 3 надзирателя. Все было до мельчайших деталей предусмотрено, чтобы заключенный, как во время самой прогулки, так и при переходе из камеры во двор и обратно, - не только не встретился с товарищем, но и не видал его: не выпускали из камеры, пока предыдущий не заворачивал за угол коридора; предыдущий на всякий случай был уголовный; на прогулке не помещали политических в соседние сегменты и т. д. Но все, же всякая прогулка всегда что-нибудь давала: прочтешь на заборе какую-нибудь надпись, получишь записку, переброшенную из дальнего сегмента, а то и просто из окна камеры и т. п. Так же и потому же полны были интереса путешествия раз в 2 недели в баню и к парикмахеру. Но, несомненно самым интересным событием были свидания: они были эрой, от которой и до которой велся счет дней, - и не удачный визитер, не удачное свидание - отравляли всю неделю. Из газет можно было получать только еженедельную газету «Неделя» Гайдебурова; уж и не знаю почему, она тогда пользовалась доверием жандармского управления; хотя там в то время сотрудничал Меньшиков, но он еще тогда либеральничал. «Неделя» была единственной дозволенной щелью; через которую должны были приходить к нам вести о жизни за стенами тюрьмы. Но были и другие, недозволенные, нелегальные щели. Первые дни моего заключения, вечерами, когда все стихало, и я ложился на свою койку, я слышал, как ползут по стене тихие, осторожные звуки. Я улавливал их систематичность и понимал, что это разговор: вот, один спрашивает, другой отвечает... Я чувствовал, как живут эти мертвые стены, - но сам не мог принять участия в этой жизни, так как не знал азбуки для перестукивания. И это меня страшно раздражало. Кто они, мои товарищи по заключению? О чем ведут такие продолжительные разговоры? Быть может, это меня вызывают мои знакомые, привлеченные по одному со мной делу? И мы могли бы даже сообщить друг другу свои показания. И я напрягал всю силу своей догадливости; чтобы как-нибудь открыть секрет, - но ничего не мог придумать, И так я бы и не узнал секрета, если бы мой сосед сверху, уголовный, догадавшийся по моим неуклюжим попыткам перестукиваться с ним, что я не знаю азбуки, если бы он однажды, - воспользовавшись тем временем, когда надзиратель нашего коридора был в дальнем отделении - не простучал мне по трубе, соединяющей наши камеры, всей азбуки; при этом он каждую букву выкрикивал так громко; что мне было слышно. Азбука оказалась построенной по очень простому принципу, и я сразу же понял; в чем дело. В моей тюремной жизни это было происшествие громадной важности: ожили и для меня страны, ожила тюрьма. Теперь, лежа ночью на койке; я уже не только понимал все то, о чем повествуют эти тихие звуки, но и сам вскоре начал принимать участие в разговорах; я перезнакомился со всеми своими соседями рядом, сверху, снизу; знал – кто, в чем обвиняется; на 5-м этаже сверху надо мною (я сидел на 3-м этаже) я нашел своего знакомого еще с воли, и по трубе для отопления; идущей снизу до самого верха; мы вели продолжительные разговоры и очень часто играли даже в шахматы. Вскоре после этого мне удалось завязать переписку с одним из уголовных, убиравших наш коридор; он мне подбрасывал свежие номера «Нового Времени», «Петербургского Листка», сообщал сведения о тюремных событиях и предлагал даже переслать записку товарищам; я ему давал чай, сахар; по его просьбе писал ему стихотворения Некрасова и латинскую азбуку. А однажды вечером; крадучись, вошел ко мне в камеру дежурный надзиратель и попросил медицинского совета для своих больных детей; в следующее дежурство он попросил книжку для чтения, и у нас установились такие хорошие отношения, что я понимал, что он готов был оказать мне и серьезную услугу, если бы в этом явилась у меня надобность. Так медленно, но настойчиво чрез незаметные щели жизнь просачивалась в то герметически, казалось, закрытое место, которым старалась окружить заключенного администрация. На допрос меня вызвали только 1 раз, недели через 2 после моего ареста. Допрашивал жандармский офицер Леонтьев и тов. прокурора Кичин. И помню, этот последний, - маленький толстенький представитель «правосудия»; - произвел на меня самое отталкивающее впечатление; вел он себя много хуже, нежели жандарм. Ему нужно было, чтобы я рассказал, кто именно послал ко мне рабочих и кто передал мне найденные у меня при обыске нелегальные книжки. И, вот, битых 3 часа этот господин неутомимо доказывал, забрасывая меня бесконечной рекой софизмов, общих мест, доказывал, что мой долг, моя обязанность совершить эту мерзость. Чтобы сделать более легким для меня это желаемое признание, он то сам уходил, оставляя меня наедине с жандармом, то усылал жандарма. Наконец, увидав, что ничего не удастся добиться, он отпустил меня, сказав, что, если я передумаю и соглашусь сказать то, о чем он спрашивает, то чтобы дал ему знать и он меня вызовет. И я рад был, что теперь это зависит от меня; я знал, что по своей воле я больше его не увижу. Только еще раз вызывал он меня по какому-то пустому поводу, да еще раз возили в фотографию снимать, а то я все сидел и сидел, точно забыли обо мне. Кончилась зима, наступила и прошла весна, - а я все в той же камере, все тот же маленький клочок неба вижу из оконца и лишь по более энергичному воркованию голубей сужу, что весна на исходе, что лето близится. Но вот и лето прошло, осень наступила с дождями и ланами, и мутнее стал клочок моего неба. За перестукивание меня перевели в 5-ый этаж, запрятали подальше; новая камера оказалась грязной; полной насекомых, - пришлось с ними вести ожесточенную борьбу, пока я ее очистил. А об освобождении ни слуху, ни духу. Сам житель города; почти постоянно проводивший время в доме, на улицах, - я почему-то особенно тосковал по полю, свежему воздуху, лесу; я готов был куда угодно идти в ссылку, лишь бы не сидеть в этих 4-х стенах; месяц ссылки я тогда с радостью принял бы вместо одного дня заключения. И только уверенность в том, что все это заключение, наверное, когда-нибудь кончится, что бесконечно оно длиться не может - эта мысль постоянно пребывала, теплилась в сознании - только она служила главным источником спокойного отношения к переживаемому. И вот, наконец, осенью, о свидании мои родные сообщили мне, что хлопоты о моем освобождении под залог увенчались успехом, что скоро меня освободят. Понятно, ни в этот, ни в ближайшие дни я уже ничего не мог делать; прахом пошел весь мой регламент; и все это время, вплоть до дня освобождена, было самым тяжелым временем моего заключения. А тянулось это бесконечно долго - почти 2 месяца. Однажды, в неурочный час зазвенели ключи у камеры. -«Пожалуйте в контору!» - «Зачем?» - «Там прокурор». Прокурор сообщил мне, что меня отдают отцу на поруки под залог, но что я немедленно должен выехать из Петербурга; что до окончания дела я могу поселиться, где угодно, но только за исключением университетских городов и фабричных местностей. Из тюрьмы меня перевели в губернское жандармское управление и там выдали на руки отцу, приехавшему для этого из Киева. В тот же день мы с отцом выехали из Петербурга. Местом жительства я избрал город Бердичев, как находящейся на расстоянии 4-х часов езды от Киева, где жили мои родные и куда incognito я мог приезжать время от времени.
ГЛАВА I I I. В ссылке, в Сибири (1899-1903 г.). Прошло около года после моего освобождения из тюрьмы, а приговора по моему делу все не было. Так как все мое «преступление» состояло лишь в том, что у меня на квартире 2 раза собрались рабочие, и при обыске были найдены 3-4 нелегальные книжки, - и жандармское дознание ничего больше не могло обнаружить, - то я и мои родные (да и жандармы им это говорили) полагали, что дело ограничится воспрещением жительства в столицах. Но вышло не так. Осенью 1899 года я был внезапно арестован и заключен в тюрьму по предписанию из Петербурга. Бумага, полученная местным полицмейстером, гласила так: «арестовать и препроводить этапным порядком в Московскую пересыльную тюрьму; а оттуда на 4 года в Восточную Сибирь в распоряжение Иркутского военного генерал-губернатора». Лишь при помощи усиленных хлопот моим родным удалось добиться для меня разрешения поехать на свой счет с конвоем прямо в Иркутск. И в сентябре 1899 г. я выехал из Киева в сопровождении конвоя из 2-х унтер-офицеров Киевской конвойной команды. О Сибири я имел самые смутные сведения; место моей ссылки должен был назначить Иркутский военный генерал-губернатор, и, хотя я имел основания предполагать, что он назначит меня в глухой угол Якутской области (в то время всех евреев ссылали в Якутскую область), но это меня мало беспокоило. Наоборот, я ехал в глушь с любопытством и интересом: ведь там все же есть жизнь, люди, природа - и я не буду заживо погребенным, как в Петербургской тюрьме. Дорога была очень удачная; только незадолго до того было открыто железнодорожное сообщение вплоть до Иркутска - и мы всю дорогу сделали дней в 13. Конвойные мои оказались славными ребятами: они относились ко мне очень внимательно и благожелательно; были очень высокого мнения и обо мне лично, и о моем преступлении, и своей миссии. В сознании важности возложенного на них поручения они в дороге совершенно игнорировали дисциплину, не обращали внимания на офицеров, так что на одной станции в Сибири у них даже вышел скандал с одним офицером. Приехали мы в Иркутск поздно ночью и долго блуждали по улицам в поисках ночлега. Наконец, приютились в маленькой гостинице. На следующий день мы отдыхали от дороги; я разыскивал в городе знакомых, товарищей. На 3-ий день старший унтер-офицер отвел меня в канцелярию генерал-губернатора и сдал дежурному чиновнику под расписку. Генерал-губернатор меня (и еще нескольких приехавших в то время товарищей) оставил в самом Иркутске. * * * В жизни Сибири этот сплошной железнодорожный путь, прорезавший ее вдоль, соединивший ее с Европейской Россией, сыграл громадную роль, революционно разрушив все старые, сложившиеся условия жизни, отношения. И по этой дороге, по которой потекли в Сибирь и из Сибири товары, пошло революционное движение. Вдоль всего железнодорожного пути создались большие железнодорожные мастерские (в Омске, Красноярске, Чите, Харбине; в каждой из них было по несколько тысяч рабочих); кроме этих рабочих, железная дорога сгруппировала многочисленный контингент рабочих других категорий (по службе, движения, пути, тяги) и массы служащих в правлениях. В истории революционного движения в Сибири самую выдающуюся роль сыграли именно эти железнодорожные рабочие и служащие; здесь были первые очаги революции и, в свое время, эти рабочие стали во главе движения; на них же главным образом обрушилась всей своей тяжестью реакция. Но об этом ниже. Революционного фермента, революционной бациллы в Сибири было уже слишком много. Десятки лет правительство высылало сюда для отрезвления или вернее для наказания, все, что ему удавалось выловить самого энергичного, самого сильного в России; и, само собой разумеется, эти «политические» или «государственные», как их здесь называли, не могли не иметь влияния на население. Отношения меж ссыльными политическими и населением, как правило, за очень малыми исключениями, были в высшей степени хорошие; «политические» везде пользовались доверием и даже почетом; население всех их как-то объединяло одной общей круговой порукой; если ссыльный уезжал, не уплатив долгов, то крестьяне не беспокоились: они спокойно обращались за уплатой к приезжавшим после. И мы всеми силами старались, понятно, поддерживать эти традиции; более состоятельные колонии ссыльных всегда в таких случаях поддерживали более бедных. Не только на далеком Севере, но и почти по всей Сибири, политические часто были самыми образованными, самыми просвещенными людьми в деревнях, селах, городках, и потому в серьезных, затруднительных случаях крестьяне и горожане сплошь и рядом обращались к ним за советом. Они не только были учителями, воспитателями, - но, когда с развитием общественной жизни явилась потребность в культурных силах; они и другие функции исполняли. Среди моих товарищей по ссылке я знал исполнявших обязанности волостных писарей, секретарей мировых судей и т. п. И, когда началась постройка, а затем эксплуатация железной дороги, то, как это ни было нежелательно правительству, но оно все же вынуждено было обратиться к политическим ссыльным, среди которых имелся готовый контингент служащих с самыми разнообразными сведениями по самым различным специальностям. И поэтому среди железнодорожных рабочих и служащих на всевозможных ступенях иерархии оказались политические ссыльные. С образованием таких скоплений революционной энергии, какие возникли в железнодорожных мастерских, и службах, - естественно должно было сказаться и влияние на них этого революционного фермента, - и началась сначала тихая, скрытая пропаганда, - а затем, серьезная и энергичная организация и агитация. В Иркутске в то время нас, ссыльных, скопилось несколько десятков человек. Иркутск стоит на большой дороге, по которой постоянно, безостановочно текла туда более широкая, обратно боле узкая волна политических ссыльных и из этой волны по тем или другим причинам постоянно оседали здесь ссыльные; кроме того; во всякий данный момент всегда здесь были ссыльные, идущие в ссылку или возвращающиеся, а также бегущие из ссылки; были всегда и такие, которым администрация разрешила временное пребывание для лечения, и, наконец; несколько человек ссыльных, в том числе и меня, генерал-губернатор оставил в Иркутске для отбывания ссылки. Таким образом, здесь постепенно собрались представители всевозможных эпох революционного движения, всевозможных партий и направлений; каждая волна революционного движения в России выбрасывала здесь, на Дальнем Востоке, своих представителей. Здесь были старые революционеры: народовольцы, каракозовцы, нечаевский солдатик, старые пролетариатцы из Польши, пепеэсовцы, народоправцы, наконец; последние годы дали с.-ров, с.-деков, бундистов. И, поскольку мал был до ссылки у меня опыт и незначительное знакомство с ссыльными, постольку здесь я был поставлен в исключительно благоприятные условия: я мог на лицах; на носителях революции, знакомиться и с ее прошлым, и с ее настоящим. Жили мы, ссыльные, в общем, очень дружно; в особенности первое время, пока в самом Иркутске не началась революционная работа. Мы все были объединены одной общей организацией «кассой взаимопомощи»; членами ее были все ссыльные Иркутска. Обложили мы себя прогрессивным % с наших доходов; сообща устраивали различные предприятия (вечеринки, балы, лотереи) для пополнения доходов кассы; касса наша не столько помогала нуждающимся в Иркутске (на это шла самая незначительная часть доходов), сколько проходящим в ссылку; бегущим, возвращающимся из ссылки. Все усиливающееся революционное движение в России выражалось во все увеличивающемся потоке ссылаемых; движение переходило в массовое; и каждый этап привозил все новых и новых ссылаемых; в громадном большинстве случаев люди шли не только без средств, но и без одежды; белья; обуви и шли так на крайний север, в Якутскую область. Мы снабжали их шубами, валенками; теплым бельем, провизией, - но чем дальше, тем труднее было нам справляться с этой задачей. И эту работу делали мы, ссыльные, дружно, все вместе: с.-деки, с.-ры; пепеэсовцы, бундисты. Общая работа создавала хорошие товарищеские отношения; мы все жили точно одной большой семьей. И даже первое время, когда началась революционная работа, мы сообща приобрели одну пишущую машину, которая по очереди находилась в пользовании различных направлений. Но так было только самое первое время; с развитием работы ссылка все больше и больше разбивалась на 2 лагеря: марксистские элементы (с.-деки и бундисты) в одном; - народнические (с.-ры, старые народовольцы, пепеэсовцы) в другом. Внешне мы еще сохраняли хорошие отношения; мы еще все вместе собирались на колониальные праздники, но трещина явилась. Особенно обострились отношения, когда мы, соц.-демократы, выпустили первую прокламацию за подписью «Иркутский Комитет Р. С.-Д. Р. П.». По поводу целесообразности выпуска этой прокламации возникли крупные споры, и с тех пор все глубже и глубже шла меж нами трещина; распалась касса, мы почти перестали встречаться и зажили совершенно отдельно, самостоятельно, - объединяясь лишь в особенно серьезных случаях. * * * Обсудив с указанными им 2-мя товарищами предложение; мы в принципе его приняли; но нам не понравилась первая прокламация (она не была свободна от тенденций сибирского сепаратизма). Приехавший товарищ согласился с нами, сказал, что тоже находит и Красноярск и, что томичи, авторы 1-го манифеста, не протестуют и предлагают нам составить новый манифест. Мы согласились и, таким образом; положено было основание «Сибирскому Союзу Рос. С.-Д. Раб. Партии». Составили его: 3-ое в Иркутске, 1 в Красноярске; 2 в Томске, и объединял нас разъезжавший 7-ой товарищ. Мы решили съехаться, чтобы сообща на совещании выработать план работы. Ближайшей задачей, которой мы сейчас же занялись, не дожидаясь съезда, мы поставили организацию комитетов и подготовку к выпуску социал-демократической газеты для Сибири, которую предполагали составлять и редактировать в Иркутске, а печатать в Томске, где у союза уже была своя типография. Потребность в таком организующем и руководящем центре, несомненно, была сильная; по Сибири было рассеяно много социал-демократов; вдоль железнодорожного пути, где скоплялись рабочие, там и сям сами собой зарождались группы работающих социал-демократов; начинавшая в то время свою крупную организационную работу «Искра» в Сибирь приходила очень поздно, и ждать от нее руководящих директив было слишком долго, и потому появление Сибирского Союза было очень своевременно. Товарищ уехал, а мы занялись организацией Иркутского Комитета. Из среды ссыльных и местной интеллигенции мы составили группу наиболее активных социал-демократов, которая и начала заниматься планомерной пропагандой среди организуемых ею в кружки рабочих, приказчиков, интеллигенции. Сейчас же мы занялись оборудованием типографии в Иркутске. В г. Чите; ближайшем к нам месте очень крупного скопления железнодорожных рабочих (там были мастерские), одним жившим там социал-демократом уже давно велась пропаганда среди рабочих, и нам через него легко удалось и там сорганизовать комитет. В Иркутске работа скоро наладилась; состав комитета и пропагандистов был очень непостоянный, так как ссыльные, закончив срок ссылки, уезжали; а из местной молодежи редко кто надолго засиживался; самые энергичные уезжали работать в Россию. В зависимости от более или менее удачного состава комитета и работа в данное время велась более или мене удачно; - но, в общем, она шла довольно успешно. Мы имели кружки и вели пропаганду среди железнодорожных рабочих; служащих, приказчиков, ремесленников; учащихся; типографию свою мы так хорошо оборудовали, что могли выпускать прокламации не только для Иркутска и ближайших к нему пунктов, но могли исполнять часть работы и для Сибирского Союза, т. е. для всей Сибири. Печатали мы прокламации по поводу всех выдающихся политических событий и чрез посредство специально организованной «группы распространителей» засыпали ими город. Кроме прокламаций мы время от времени выпускали Летучий Листок Иркутского Комитета. Как члены Сибирского Союза мы занялись организацией предмайской пропаганды; задумали мы ее очень широко и очень удачно выполнили; по предварительно выработанной нами программе мы составили целый ряд предмайских листков: которые одновременно перепечатывали во всех комитетах и союзных типографиях (Томске, Красноярске, Иркутске и Чите); и одновременно же их везде распространяли; так же одновременно распространяли мы нашу майскую прокламацию по всей Сибири, по всему железнодорожному пути от Челябинска до Харбина. В это время в России «Искрой» с редкой энергией и талантливостью велась работа по части выяснения программы, выработки того идейного центра, вокруг которого могли бы собраться разбросанные по России социал-демократические организации. Потребность в объединении настоятельно ощущалась всеми; российские комитеты один за другим заявляли о том, что принимают программу и тактику «Искры». Мы все, иркутяне, были убежденными искристами; и решили, что и наша пришла очередь. Сибирский Союз к тому времени захирел; принятый нами план объединения нашего через одного путешествующего члена Союза; - оказался несостоятельным, съехаться же нам так и не удалось. Никакого руководства Союз, как таковой, не оказывал; комитеты были вполне самостоятельны в своей деятельности, и по мере развития работы они все с большей неохотой признавали свою зависимость от Союза, организации, состава которой даже не знали, так как сносились они с нами только через одно уполномоченное лицо. Да и по составу Союз захирел: 2 члена выбыли из его состава за отъездом, а один просто отстал. Мы тогда решили пополнить состав его; мы кооптировали в состав его 3-х новых членов (самых энергичных и толковых из комитетов) и выпустили прокламацию от имени Союза о том, что принимаем программу и тактику «Искры». Такие же прокламации выпустили все наши комитеты; а их у нас тогда было 4 (в Томске, Красноярске, Иркутске и Чите) и 5-ый в Омске налаживался. * * * Я в Иркутске в это время занимался частной врачебной практикой. По уставу об административно-ссыльных занятие врачебной практикой допускается с разрешения администрации; уезжавший как раз в то время генерал-губернатор, очень благодушно по случаю своего отъезда настроенный, дал мне такое разрешение; практика у меня очень быстро развилась; вместе с ростом ее у меня создавались большие связи среди населения и росла моя популярность. Понятно, администрации это было очень неприятно. Кроме того, хотя у нее не было доказательств, но она не могла не догадываться, что работа Иркутского Комитета Р. С.-Д. Р. II. происходит не без моего участия. После этой истории дело с моим удалением из Иркутска пошло очень энергично и, несмотря на хлопоты моих больных, посылавших к губернатору депутацию с просьбой оставить меня в Иркутске, телеграфировавших о том же в Петербург, - в мае 1902 года я вынужден был выехать в Нижнеудинск, маленький городок Иркутской губернии. Но здесь я пробыл недолго. Вскоре же по приезде я, благодаря несчастной случайности на охоте, - должен был подвергнуться серьезной операции; местный врач, произведший мне эту операцию, на другой день уехал и я остался без медицинской помощи; тогда товарищи, не испросив даже разрешения губернатора, перевезли меня обратно в Иркутск; а губернатор в виду серьезности моего положения не решился меня тревожить. По моем выздоровлении он опять стал было требовать, чтобы я выехал в Нижнеудинск; но, так как до конца срока моей ссылки оставалось всего 2-3 месяца, то он, в конце концов, оставил меня в покое. 26 мая 1903 года кончился срок моей ссылки, а на следующий день я выехал в Россию. Сильно изменила меня 4-х летняя ссылка, громадное имела на меня влияние. В Сибирь я уезжал, незнакомый ни с революцией, ни с революционерами, - из Сибири возвращался убежденным революционером, членом Рос. Соц.-Дем. Раб. Партии, делегатом от Сибирского Союза на созываемый тогда 2-ой съезд Партии. Вырвав меня из той буржуазной среды, где я вырос и жил, и, бросив в тюрьму, а затем в ссылку, в среду революционеров, - правительство способствовало тому, что из не вполне ясных стремлений, тенденций - выросло убеждение; из наивного культуртрегера - революционный социал-демократ. До ссылки я не только не занимался революционной деятельностью, но даже очень малое имел о ней представление. В Сибири я познакомился со всей революционной практикой: я занимался с рабочими кружками, организовывал с товарищами нелегальную типографию, организовывал комитеты и. т. д. И в Сибири я убедился, что я отнюдь не являюсь исключением; многих и многих революционеров создавало само правительство своей бестолковой, безумной, жестокой политикой.
ГЛАВА I V. На 2-м съезде Рос. Соц.-Дем. Раб. Партии (в 1903 г.). Большевизм и меньшевизм. В июне 1903 года я выехал заграницу: я спешил на 2-й Съезд, на который имел мандат от Сибирского Союза. Время и место Съезда мне были неизвестны, а мы так много ожидали от него, что, боясь опоздать, я решил дожидаться его где-нибудь заграницей, поблизости. Особенное значение имела тогда Женева для нас, социал-демократов, так как здесь печаталась «Искра» и находились почти все ее редакторы, - а «Искра» в то время была на вершине своего влияния и славы. В Женеве уже начали в то время съезжаться депутаты на съезд, и с ними редакторы «Искры» устраивали совещания, беседы по поводу вопросов, которые должны были обсуждаться на съезде. Съезд мы открыли в Брюсселе, но здесь нам удалось только начать нашу работу; закончить ее пришлось в Лондоне, так как мы обратили на себя внимание бельгийской полиции. Вокруг Maison du peuple, где происходили заседания нашего съезда, тучами начали носиться шпионы; они ходили за всеми нами по пятам, и, наконец, человек 15 из нас получили предписание из полиции в 24 часа выехать из Бельгии. Тогда мы всем съездом перекочевали в Лондон, где и закончили свою работу. Продолжался съезд несколько недель, стоил он массу денег, съехалось на него больше 40 человек. Что дал этот съезд? Много возлагали мы на него надежд; хотя он и назывался 2-м съездом, так как первым называлось собрание представителей нескольких комитетов, съехавшихся в 1898 году в России и опубликовавших известный манифест Росс. Соц.-Дем. Раб. Партии, - но в сущности Партии, как тесно спаянной организации, в то время не было. За эти несколько лет, со времени 1-го съезда, движение сильно разрослось вширь и вглубь; в различных местах России образовались новые комитеты, сильно разрослись и выросли национальные организации; в самой. Партии обрисовались новые течения, были довольно большие шатания в области теории и практики. Нужно было все эти организации стянуть, спаять в одну; нужно было выяснить и оформить наши отношения к вновь возникшим и выросшим организациям; нужно было определить свои отношения к различным течениям внутри социал-демократии, - словом, нужно было воссоздать единую партию с определенной тактикой, программой, - и всего этого мы с несколько наивной верой в значение и влияние съездов, - ждали от 2-го съезда. Уже и раньше несколько раз делались попытки созвать съезд, но все эти попытки оканчивались неудачей вследствие малой популярности, или же ареста бравшихся за это организационных комитетов. Лишь когда выросла и окрепла «Искра» и ее организация взялась за это дело, - лишь тогда удалось созвать съезд. «Искра» прежде всего, постаралась создать идейное объединение, как мы тогда выражались; она выработала проект программы для Партии и своей последовательной; энергичной и талантливой пропагандой ее, критикой своих противников, - она действительно создала базис, вокруг которого начали собираться социал-демократические организации. Пользовалась она в то время среди социал-демократов необыкновенным влиянием; номеров «Искры» ожидали всегда с громадным нетерпением, их зачитывали до дыр; их не только читали, - их изучали. Если многим из нас кое-что и не нравилось в «Искре», если особенно не нравился нам тон ее полемических выпадов, некоторое пристрастие в полемике с противниками, то все же мы всецело разделяли ее программу, ее тактику и считали необходимым для Партии объединение именно на почве ее программы. Когда редакция «Искры» увидала, как много она уже сделала для «идейного объединения», каким влиянием и доверием она пользуется, когда громадное большинство комитетов уже официально заявило, что принимает и признает ее программу и тактику, - она решила, что пришло время закрепить это влияние, вылить его в организационные формы, реализовать его в постановлениях и резолюциях съезда. Она тогда энергично взялась за созыв съезда и создала Организационный Комитет, в большинстве составившийся из искристов. И так, казалось бы, ауспиции были очень благо приятны: отметем крамолу, подавим несогласие и могучие своей идейной единостью выйдем мы из съезда, - и создадим сильную, единую Рос. Соц.-Дем. Рабочую Партию. Так казалось - но вышло совсем не так. Пока мы, искристы, боролись с Мартыновым, а особенно с Акимовым, все были очень солидарны; с Бундом тоже боролись мы дружно, но вскоре стали мы замечать, что не все обстоит благополучно в том самом центре, вокруг которого собирали мы Партию, в том самом базисе, на котором мы ее строили, - словом, что единая нас объединяющая «Искра», - что она дала трещину. Сначала эта трещина только слегка обрисовалась: с удивлением мы, непосвященные во внутреннюю жизнь редакции «Искры», замечали, что Мартов иногда возражает Ленину, что Мартов с Лениным голосуют один против другого. Мы так привыкли видеть их имена вместе, что объясняли это случайностью, недоразумением; но, чем дальше, тем эти случаи становились чаще, споры становились все резче, ожесточеннее, отношения все обострялись; уже к ним примешивалось все больше и больше личного раздражения, - и наконец, во всей своей очевидности обрисовалась в высшей степени тяжелая тогда для нас истина: единая, объединяющая «Искра» раскололась на 2 «Искры»: Ленин с Плехановым с одной стороны; Мартов, Аксельрод, Старовер, Засулич - с другой. И, отколовшийся от «Искры», Ленин всю свою энергию тратил на то, чтобы уничтожить эту самую «Искру». Первое серьезное столкновение произошло по вопросу о том, как формулировать понятие «член партии»? Здесь не так было важно содержание формул Ленина и Мартова, сколько тт. соображения, которые тот и другой и их последователи выдвигали в защиту своей формулы. Ленин хотел резкими границами очертить Партию, он понимал ее, как точно очерченный, определенный организм; Мартов делал переход Партии в класс менее резким, менее определенным; он растворял эти границы в классе, из которого должна была расти Партия. Уже тогда обнаружилось то упрощение задачи, то упрощенное, прямолинейное понимание задач социал-демократии, сущности революционной деятельности, существа революции, который так были гибельны для Ленина и большевизма в дальнейшем, когда жизнь наоборот усложнялась и все более сложные ставила перед нами задачи. Если внимательно перечитывать старые номера «Искры», то специфически ленинское отношение к вопросам можно найти уже в его старых статьях, а особенно в его брошюре: «Что делать?». Но, пока Ленин был в редакции «Искры», - эти оттенки затушевывались; они смягчались редакционной коллегией; острые углы Ленина обламывались, - а на первый план выдвигалось то, что объединяло всю редакцию, на чем она вся сходилась, - и таким образом создавалась гармония. Так бывает всегда и везде во всякой коллегии. И когда съезд закончился, у нас не было ни Центрального Органа, так как ясно было, что в данном составе «Искра» не может продолжать свое дело, - ни авторитетного Центрального Комитета. Но у нас на этом съезде были и другие «удачи». Прежде всего, ушла со съезда делегация Бунда, и Бунд вышел из Партии. Бунд поставил нам ультимативное требование - признать следующий организационный принцип: Бунд есть единственный представитель еврейского пролетариата. Мы этого признать не хотели - и Бунд ушел. Затем, Польская Социал-Демократическая Партия тоже прислала своих представителей на съезд; они соглашались войти в Партию, если съезд заявит, что он против независимости Польши; им это нужно было в их борьбе с национализмом Польской Социалистической Партии. Мы, понятно, отказались принять такой принцип, как противоречащий нашей программе. И поляки тоже ушли. Так печально закончился этот съезд, от которого мы ожидали так много!.. Да, мы с триумфом победили узкий «рабочедельский» (так его тогда называли по органу «Рабочее Дело») экономизм, и торжественно водрузили в Партии знамя «Искры» - но, когда оно было водружено, оказалось, что оно раздвоилось; оказалось, что теперь есть две «Искры». Которая же настоящая? Бунд ушел, П. С.-Д. мы оттолкнули, а внутри Партии; для вящего процветания «Искры», еще уничтожили газету «Южный Рабочий», орган, пользовавшийся на юге некоторой популярностью и имевший вокруг себя небольшую организацию. И теперь у нас не было ни «Южного Рабочего», ни «Искры». А главное мы, расколовшись на две почти равные части, понесли со съезда в Россию семя этого раскола; и по всей России началось расслоение всех социал-демократических организаций на два лагеря: большевиков и меньшевиков. И подобно тому, как на съезде отношения меж этими двумя фракциями установились самые скверные, самые возмутительные, - точно такие же возмутительные отношения начали устанавливаться меж этими фракциями в России. К концу съезда мы совершенно разошлись с большевиками, перестали здороваться; даже, когда по окончании съезда предложено было сходить на могилу Маркса, - то и тут меньшевики не хотели идти вместе с большевиками. И точно такие же отношения установились меж большевиками и меньшевиками в России. Почти везде фракции зажили совершенно отдельной жизнью, и, чем меньше соприкасались, тем было лучше. Тот же мусор дрязг и сплетен, который уже на съезде начал заполнять образовавшуюся меж фракциями щель, - все больше и больше портил взаимные отношения. А щель все росла, разногласия все увеличивались. Почему? Потому что причина, вызвавшая разногласие на съезде, именно специфически ленинское упрощенное отношение и понимание задач партии и сущности революционной борьбы, - не только оставалось, но, наоборот, благодаря расколу получило возможность выкристаллизоваться в последовательно проводимую систему; собирая вокруг себя элементы Партии, имеющие тенденцию именно к такому пониманию, и ими этими элементами отчасти даже покоряемое, - оно, чем дальше, тем все больше и больше уходило от меньшевиков. И хотя, конечно, Ленин не может считаться ответственным за все то, что шло под флагом большевизма; точно также как Плеханов (2) и Мартов не могут быть ответственными за все то, что выдавало и выдает себя за меньшевиков, - но все же мы, несомненно должны констатировать некоторую эволюцию большевизма, как такового. И чем сложнее задачи ставила все бурнее развивающаяся революция; тем, понятно, все более и боле ошибочные ответы должен был давать все упрощающий ленинизм. Роль буржуазии и буржуазных партий во время нашей революции, значение Думы в период упадающего революционного настроения - все это было слишком сложно для большевизма. Поэтому и не мудрено, что обе фракции не только не сближались, - но, наоборот, все больше расходились. Не было, кажется, ни одного серьезного вопроса, относительно которого большевики и меньшевики не дали бы различные ответы, особенно, когда этот вопрос только что выдвигался жизнью. Да, спросят нас, но почему же такая вражда? Разве не живут рядом и не уживаются даже в одной партии мировоззрения, и много более различные? Почему большевики и меньшевики во взаимной злобе даже партию готовы были (и сейчас готовы) разорвать?
ГЛАВА V. В Петербурге в период банкетов. Приехал я в Петербург осенью 1904 года. Все еще продолжалась отдающая теперь такой наивностью эпоха «доверия к обществу», - провозглашенная князем Святополк-Мирским, вступившим тогда после убийства Плеве на престол министерства внутренних дел. Мыши попрятались куда-то; точно вольным воздухом повяло. И, понятно, запевалами на этих банкетах, среди этого только просыпающегося общества явились деятели революционного подполья, они вылезли из своего подполья и сквозь появившиеся щели начали говорить и говорить... И хотя и говорили то они еще неважно, но, в сравнении с еле лепечущими обывателями, должны были импонировать. И хотя и опыта политического у них не было, и организация их была относительно слабая; - но кое что у них было; кое какая организация у них была, а главное у них была программа действия; они ясно знали, чего хотели; и потому неудивительно, что они оказались заправилами; они заставляли просыпающегося и потягивающегося обывателя аплодировать крамольным речам и выносить крайне демократические, и даже социалистические резолюции, энергично и уверенно тянули они его все влево и в свои окраски окрашивали все митинги; собрания; резолюции. Помню врачи, подобно членам других профессий, тоже решили устроить свой банкет; была организована комиссия для предварительной выработки резолюции, которую должен был принять этот банкет. В эту комиссию вошел и я. На первом же собрании мы, социал-демократы, бывшие в комиссии, предложили в число требований внести требование свободы стачек; некоторые возражали; помню, д-р Петрункевич, тоже присутствовавший на заседании комиссии, заявил, что в принципе он ничего не имеет против этого требования, но считает включение его лишним, так как, по имеющимся у него сведениям, проект закона о свободе стачек уже выработан в министерстве; но мы настаивали, и большинством голосов наше предложение было принято. Больше я не получал приглашений на заседания комиссии, a затем получаю приглашение уже на самый банкет, и узнаю, что старая комиссия распалась, что образовалась новая, уже без меня и других с.-деков; выработавшая новую резолюцию; - и в этой новой резолюции не только не упомянули о свободе, стачек, но и знаменитую 4-х-хвостную формулировку избирательного права опустили и поместили ее только благодаря очень энергичному настоянию одного товарища, случайно попавшего на последнее заседание комиссии. Мы решили не уступать. Банкет начался; у входа столпилось человек 50 рабочих, требовавших, чтобы их впустили, так как им, мол, не дают возможности собираться; устроители банкета их не впускали, начались споры, угрожали полицией, но, в конце концов, устроители принуждены были уступить, - и рабочие вошли в зал, где за длинными столами сидело 300-400 человек врачей; разместились рабочие в проходе меж столами, у стен. Председатель прочел проект резолюции и предложил принять ее без прений; но мы потребовали внесения поправки с требованием свободы стачек, причем рассказали историю с комиссиями. Начались речи, были предложены и другие поправки; начинают просить слова и вмешиваться в спор и рабочие; спор между защитниками и противниками поправок все ожесточается, настроение подымается и дело кончилось бы скандалом, если бы председатель не закрыл банкета. Озлобленные, недовольные врачи покидают зал; мы с рабочими затягиваем революционную песню; рабочие сгруппировываются в быстро пустующем зале; один вскакивает на стул и заявляет: «банкет врачей кончился, начинается наш банкет»; но этот «наш» банкет пришлось сейчас закрыть, так как хозяин ресторана пригрозил полицией. Банкеты, митинги, собрания, ученые общества принимали самые крайние резолюции, - но... все оставалось по-прежнему, и не только внутри государства, но даже по-прежнему продолжалась война. На банкетах уже досыта наговорились, и они начинали надоедать, начинали выдыхаться; движение как бы уперлось в тупой угол. В это именно время мы сделали было попытку вынести его на улицу, - и в первых числах декабря назначили демонстрацию на Невском. Но прежде всего несколько слов о том, кто это «мы», - о той организации, к которой я тогда принадлежал. Кроме рабочих была у нас в то время довольно обширная социал-демократическая организация учащихся в высших учебных заведениях. И вот, от этой то организации главным образом, а также и от некоторых организованных рабочих, шли все время настойчивые требования назначить демонстрацию на Невском. Совещания по поводу этой демонстрации в высшей степени осложнялись межфракционными дрязгами, необходимостью вести переговоры с дипломатическими тонкостями; несколько раз демонстрация то назначалась, то отменялась и, наконец, помню, в одну из Суббот окончательно было решено назначить демонстрацию на завтра, на Воскресение. Это постановление в некоторые рабочие районы дошло уже после того, как работы прекратились, так что невозможно было даже широко оповестить о нем рабочих. Отчасти поэтому на демонстрацию пришло так мало рабочих. Помню я эту демонстрацию. Правительство заготовило массу войск; на прилегающих улицах были сконцентрированы тучи дворников, сорганизованных в правильные отряды; везде по Невскому усиленные наряды полиции, конные патрули жандармов, конной гвардии. На Невском обычная воскресная публика. Но, чем ближе к 12 - времени; назначенному для демонстрации, - там все боле начинает изменяться характер публики; среди хлыщей, разряженных дам появляются сначала одиночки, затем маленькие группы, а затем и сплошные толпы учащихся. Обыкновенная публика начинает догадываться, что здесь что-то подготовляется и постепенно улетучивается; полиция подтягивается, конные патрули появляются все чаще, полицейских все больше. А уже публика совершенно другая: густой волной медленно течет по обоим тротуарам Невского сплошная толпа молодежи, главным образом учащихся высших учебных заведений, много курсисток; мало, но есть и рабочие, почти все молодые; толпа движется все медленнее и медленнее; то здесь, то там начинается пение революционных песен; лишь только где начнется, мигом бросаются туда городовые, патрули, дворники и публика, - но песня сейчас же смолкает, чтобы начаться в другом месте. Все начинают нервничать, волноваться. И вот, наконец, на одном углу раздается особенно дружное пение; точно по данному сигналу со всех сторон устремляется туда публика; туда же 6егут ближайшие дворники, городовые, - но на этот раз пение не умолкает, - оно все громче, все шире; дворников, полицейских отталкивают, и над сомкнувшейся толпой взвивается красное знамя; со всех сторон устремляется к знамени толпа, - но уже мчатся туда же во весь опор, давя публику, размахивая нагайками и обнаженными шашками, конные патрули жандармов, конногвардейцев, тучей врываются из ближайших улиц дворники; только на один миг может оказать толпа сопротивление, - и уже знамя сорвано, демонстранты рассеяны и длинной вереницей вдоль все еще полных публикой тротуаров ведут арестованных в участок. Еще одна была попытка, еще раз на мгновение взвилось красное знамя - и этим закончилась демонстрация. Другие демонстрации были еще бледнее. Помню одну, особенно пропагандированную с.-р.-ами, у здания Окружного Суда на Литейном во время суда над арестованными по делу об убийстве Плеве; только отдельные, редкие группы блуждающей вокруг здания суда молодежи, масса войск, полиции, - и больше ничего. * * * Манджурская авантюра, так мучившая, тревожившая и такой оппозиционной энергией наполнившая высшие классы, - неустанно молотом била и по рабочим. Тысячами кровных нитей были связаны рабочие с погибавшими в далекой Манджурии; каждое новое поражение с болью отзывалось среди них и, вскрывая всю несостоятельность правительства, будило и звало к борьбе. Безустанно; безостановочно совершался в массах процесс накопления революционной энергии, - и без устали, пользуясь всеми имеющимися возможностями, с усиленной энергией работали в низах все революционные организации, стараясь по мере сил способствовать более быстрому прояснению самосознания. Высшие классы получили возможность изливать свой оппозиционный протест в митингах, банкетах, - рабочим это запрещалось, и потому получалось впечатление тишины и спокойствия; но это было ошибочное впечатление. С живым интересом относились рабочие к происходившим на верху митингам; всякой возможностью пользовались сознательные из них, что бы как-нибудь попасть на митинг; и те билеты, которые передавались организаторами митингов в наше распоряжение - разбирались нарасхват, - а вечеринки; праздники, случайные собрания обыкновенно превращались в митинги; на которых рабочие с интересом обсуждали современное политическое положение. Помню две такие вечеринки, на которых мне пришлось быть. Одна в начале декабря на Шлиссельбургском тракте у рабочих Обуховского Завода. Рабочие прислали нам несколько билетов и просили прислать оратора. Мы командировали одного товарища, я пошел в резерве. Собралось много молодежи; в передних комнатах начались танцы, а в одной из задних начали собираться рабочие; желающие побеседовать; у дверей стояли распорядители и пропускали всех, кого знали; народу в заднюю комнату все прибывало и прибывало; вскоре набралась битком набитая аудитория; ждут - оратора нет (как я узнал потом, командированный нами оратор был днем арестован на массовке типографских рабочих). Пришлось мне выступить. Это был первый раз, когда я говорил на большом рабочем собрании. Слушали рабочие страшно внимательно, напряженно. После меня и рабочие сами говорили; оказались ораторы и из других организаций, и прения затянулись до поздней ночи. Говорили о безумии Манджурской войны, о необходимости заставить правительство прекратить войну, о необходимости коренного переустройства всей государственной жизни, о созыве, Учредительного Собрания и т. д. Дней через 10 я опять был на том же тракте; на другой вечеринке; точно так же распорядители отбирали знакомую публику в задние комнаты, - а в передних хотели организовать танцы. Но, когда в задних комнатах начались речи, - публика из передних прекратила танцы: не до танцев им тогда было; и послала к нам депутацию с просьбой дать им оратора; тогда все двери раскрыли и по всем комнатам образовались аудитории, жадно слушавшие говорящих ораторов. Возбуждение среди рабочих Петербурга все росло и, когда оно достигло серьезного напряжения, оно вылилось уже не в виде митингов, банкетов, резолюций, - оно вылилось во всеобщую забастовку и знаменитое паломничество к Зимнему Дворцу 9 Января 1905 года.
ГЛАВА V I. 9-ое Января 1905 года в Петербург. 9-ое января 1905 года тесно связано с именем священника Гапона; на кровавом гребне этого дня поднялся он, никому дотоле неизвестный священник, и на миг приковал к себе внимание всего мира. И, если даже теперь еще не вполне разъяснена загадка, кто собственно был этот неизвестный вчера, а сегодня ставший кумиром, вожаком сотен тысяч рабочих, воплотивший в себе на миг все их надежды, чаяния; кто он, так смело и дерзко двинувший их стотысячной ратью к Зимнему Дворцу, - если даже теперь, когда так много покрывал уже сброшено, когда так много раскрыто его таинственной смертью, - мы больше догадываемся, нежели знаем; - то тем более тогда, когда он только появился на нашем горизонте, мы, приходившие с ним в соприкосновение; в столкновение, терялись в предположениях, подозрениях и тоже больше догадывались, нежели знали. Несомненно долго будет жить в воспоминаниях народа этот священник, с такой искренностью говоривший с рабочими, так много отдавший им сил и времени, с такой врой в свое дело двинувший их к царю и затем, так смело после расстрела проклявший его, этот священник расстриженный Св. Синодом за свою привязанность делу рабочих; легендами украсит он его образ и даже от смерти его, так отрезвляюще для нас сбросившей его на землю, даже от смерти его возьмет легенда лишь таинственность, отблеском которой еще более украсит его жизнь. Мне пришлось лично пережить в Питере 9-ое Января, и здесь я постараюсь рассказать, что я видел в этот день, когда началась Российская Революция. Наши организаторы, агитаторы, вращавшиеся среди рабочих, все чаще и больше рассказывали нам о том влиянии, какое постепенно начал приобретать священник Гапон и о той популярности, какой начало пользоваться организованное им Общество рабочих. Общество это вначале старалось держаться в стороне от всех политических вопросов, так волновавших в то время рабочих, - и все их внимание старалось направить на вопросы экономические. И поэтому меж нашими товарищами и членами его существовал некоторый антагонизм; с особенным недоверием они относились к организаторам этого общества, подозревая здесь (и не без основания по отношению к некоторым) тайно поддерживаемую администрацией зубатовщину. Вспыхнула под руководством этого Общества рабочих, т. е. Гапона, стоящего в главе его, стачка на Путиловском заводе, как известно, вызванная частным случаем, увольнением нескольких членов этого Общества. Забастовка вспыхнула в самый разгар общественного возбуждения и, как я выше описывал, особенно сильного возбуждения рабочих. И естественно поэтому, почему, когда Гапон и его последователи повели агитацию среди рабочих других районов, желая вызвать их сочувствие и помощь Путиловским забастовщикам, почему эта агитация встретила такой горячий отклик, какого Гапон, да и вряд ли кто другой и предвидеть не мог. И в несколько дней Путиловская забастовка превратилась в всеобщую забастовку всего петербургского пролетариата, а частный вопрос столкновения Путиловцев со своим начальством в вопросе о нуждах всего Петербургского пролетариата. Особенно этому благоприятствовало одно обстоятельство в высшей степени интересное: полная свобода агитации, предоставленная Правительством Гапону и его последователям, а, следовательно и нам, неизменно присутствовавшим и пользовавшимся этими Гапоновскими собраниями. Во всех (11, кажется) отделах своего Общества Гапон и гапоновцы могли устраивать и устраивали непрерывные народные собрания, на которые валом валил народ и, чем шире разливалась стачка по Питеру, чем больше оказывалось свободных от работ забастовщиков, - тем люднее становились эти собрания. А полиция не вмешивалась! И совершенно свободно шло здесь обсуждение того, что нужно рабочему, что нужно России и как добиваться того, что нужно! И это в то время, когда нас все также арестовывали и преследовали; достаточно было нам собраться в числе человек 10 на квартире, как полиция, если только узнавала об этом, являлась, разгоняла, арестовывала; провалы следовали за провалами. Эта свобода действия была предоставлена Гапону не только в начале, когда мы имели еще дело с частной забастовкой путиловских рабочих, но даже тогда, когда стачка захватила сотни тысяч рабочих, и когда стало ясно, что мы имеем уже дело с серьезным движением петербургского пролетариата. Благодаря такой свободе агитации при соответствующем настроении петербургских рабочих движение сразу приняло необыкновенные, неожиданные размеры и стало на невиданную дотоль высоту; а раз став таким, оно уже и цели должно было поставить соответствующие: вопрос о требованиях путиловских рабочих утонул в вопросе о нуждах всего рабочего класса. И во всех аудиториях всех отделов Гапоновского Общества с утра до ночи шло обсуждение этого вопроса; одни рабочие уходили, другие приходили; бесконечной волной притекали и утекали все новые и новые волны рабочих. И, понятно, в эти аудитории устремились все революционеры, работавшее среди рабочих. Для нас сразу открылись несколько аудиторий, наполненных рабочими, жадно ожидающими и требующими слова; явился страшный спрос на ораторов; все резервы были пущены в ход; говорили все и умеющие, и не умеющие; а если кто обладал каким-нибудь ораторским талантом, умел увлечь толпу, влиять на нее, - то он говорил с утра до ночи, говорил до хрипоты, до изнеможения. Помню, был у нас один агитатор, молодой студент; он нравился рабочим, и ему пришлось работать с утра до ночи; от изнеможения он на одном собрании упал, потеряв сознание; его вынесли, отлили водой, а через час он уж опять выступал. Особенно необыкновенную деятельность проявил в это время Гапон. Квартира его превратилась точно в главный штаб во время битвы; двери открыты для всех; масса народу входить и выходить. Мы посылали опытных товарищей поближе посмотреть на эту штаб-квартиру, - и они видали Гапона: видно страшно усталый, бледный, с расстегнутым воротом бегает он по комнате; отрывистая речь, отрывистые распоряжения; точно несколько не вполне в своем рассудке. И тут же вокруг него кишмя кишат темные личности, несомненно охранного происхождения, - и тут же рабочие, им покоренные, на него молящиеся, готовые идти за него и за ним в огонь и в воду. И впечатление их было, что; если не он сам провокатор, в чем они сильно сомневались, - то все дело широко задуманная провокация. И вот, в самом характере ораторского таланта Гапона лежит, по моему мнению, разгадка всей Гапоновской эпопеи; его необыкновенного успеха и его столь трагического конца. Говорил он просто и искренно, и всегда умел овладевать аудиторией; но овладевал он ею тем; что подчинялся ей; он чувствовал, чего она хочет и куда клонит; и подчиняясь ее желаниям, он давал, им выражение и высказывал то; чего она хочет. И потому не он вел аудиторию, а аудитория вела его. Когда он начинал движение; у него не было никакого определенного плана; у него лично не было никаких определенных политических убеждений и наши товарищи это легко заметили. Собрания обыкновенно состояли из спора ораторов-революционеров с Гапоном и его приверженцами. И так как речи наших ораторов, в особенности по мере развития движения, находили сочувственный отклик в аудитории, то Гапон, понимая и чувствуя это, с каждым днем, давая выражение этому настроению толпы, двигался влево. Сегодня он в Путиловском районе говорит, что социалисты люди хорошие, желают добра людям, но неопытные, неразумные, увлекающиеся и слушать их не следует; - а завтра в Выборгском районе он уже заявляет, что и сам признает социализм, что социалисты - друзья народа, но идти за ними нельзя, их советов принимать не следует, - а на следующий день он уже принимает некоторые наши советы и вносит в число требований то, что мы предлагаем. И мы тащили его все влево, все выше, все к более широкому, т. е. правильнее сказать не мы, революционеры, - а само движение, которое мы вернее понимали. И самую идею идти к царю с петицией, никоим образом нельзя приписать Гапону. Эта идея должна была родиться в Петербургском рабочем, как только во всей своей широте поставлен был вопрос, как добиться рабочему классу того, что ему нужно. Ведь дело уже шло не только об увеличении заработка и уменьшении рабочего дня, - дело шло об улучшении вообще положения всех рабочих; дело шло о вековой тяжбе меж рабочими и хозяевами; меж рабочими и начальством, меж крестьянином и помещиком, - и при той степени политического самосознания, какая в то время была у широкой массы захваченного движением населения, естественно, что, прежде всего мысль должна была обратиться именно к царю, к этому; стоящему над всеми и выше всех, носителю и источнику власти. И они не понимали, что они давали возможность разразиться событию, которое нанесло самый жестокий, самый тяжелый удар царизму; удар, равный которому по силе вряд ли когда имел место в истории России. * * * А правительство стягивало в Петербург войска. Каковы были его намерения? Слухи один другого грознее, один другого невероятнее ходили по городу. Говорили о готовящейся западне, о предстоящем расстреле; о том, что город будет объявлен на военном положении и т. д. Как известно, накануне к министру подъехала депутация от встревоженной интеллигенции, которая, познакомив его с положением дел, хотела получить от него какие-нибудь успокоительные сведения, - но ничего определенного получить не удалось. . Но, что бы, ни предприняло правительство, допустят ли народ к царю, или нет, примет ли царь петицию или нет, - для всех было ясно, что произойдут серьезнейшие события. Решил я идти к Зимнему Дворцу вдвоем с одной знакомой. Вышли мы из дому утром, часов в 10. Жил я около Египетского моста и мы направились прямо к нему. Но мост уже был занят отрядом солдат. Они стояли, вытянувшись цепью, поперек моста. Это были какие-то маленькие, серенькие, грязные солдаты, только накануне, прибывшие в Питер из Пскова Перед цепью уже стояла небольшая группа рабочих, перекидывающаяся с солдатами довольно недружелюбными замечаниями. - «Нельзя!» -«Почему? мне нужно на Прядильную!» Подошел офицер. - «Нельзя!» - говорит. - «Почему?» - «Нельзя !»... Я начал спорить, но он не обратил на это никакого внимания. - «А идите переходом»- посоветовали мне из толпы. И действительно, через мосты Египетский и Калинкин не пускали, а по имеющемуся между ними деревянному переходу свободно взад и вперед ходил народ. Мы перешли переходом. На улицах людно; все рабочие, с женами с детьми, - и все тянется по одному направлению, к Невскому, к Зимнему Дворцу. Пошли и мы. У рабочих лица праздничные, торжественные и одеты они по праздничному. На улицах ни одного городового, ни одного патруля. Так беспрепятственно шли мы по Садовой, до Невского; пересекли Невский и дошли до Адмиралтейских ворот,. - а за ними выход на площадь перед Зимним Дворцом. Но здесь стоял отряд конногвардейцев; они стояли тесно, лошадь к лошади. Перед цепью небольшая толпа народа; толпа напирает, напирает, - и, когда уж слишком стеснит конногвардейцев, - те двинутся несколько вперед, - толпа подается назад. И все время идет бесконечный разговор с солдатами – «Чего вы, ироды, нас не пускаете?» - «Мы к царю! Царь нам сегодня ответ обещался дать!» - «Ведь вы, такие же мужички, как мы!» -«Знамо такие же; только мундиры одели!» - «Вот, мундиры снимете, туда же к нам вернетесь!» - «И для вас же, выходит, стараемся, а вы мешаете, к царю не пускаете!» Солдаты молчат. Иногда все же кто-нибудь из них не вытерпит, даст реплику: «Служба!» или «Приказано!» Постояли мы тут; видим, все тоже - и пошли на Невский. Здесь, у Полицейского моста цепь конной жандармерии. Перед цепью тоже толпа, но много гуще. И тоже разговоры с солдатами. Тут мы и решили остаться. А время все ближе к 12. Народу все больше; настроение веселое, радостно-возбужденное. Ждем. И вдруг, начинает разноситься весть, что на заставах стреляли в народ. Но этому не верят. А народ все прибывает, возбуждение все растет; народ все напирает на цепь. А затем, цепь куда-то уводят. Мы поддаемся вперед, доходим по Невскому до самого конца, до Адмиралтейского сада; там поворот направо, небольшой переход и выход на площадь перед Зимним Дворцом; но этот выход занят густой цепью солдат-пехотинцев. Мы протискались к забору сада, недалеко от передних рядов; приподнявшись на забор, я мог видеть почти всю площадь перед Зимним Дворцом. Она представляла собой настоящий военный лагерь; в разных местах ее стояли отряды пехоты с ружьями в козлах, отряды спешившейся конницы; взад и вперед гарцевали адъютанты, офицеры. А в толпе все время идет самый мирный разговор. Соседка моя, работница, рассказывает: - Вот, сейчас царь выйдет на балкон и позовет нас! - Нет, - говорит другой, - выйдет священник; махнет белым платком - значить, царь согласен; махнет красным - отказал! - А уж крестным ходом наши из пригородов пошли ! - Должны быть уж близко! - Говорят, на заставах стреляли в народ! - Нет, что ты! Не посмеют! Шутки, смех, ожидание. И вдруг, заиграл рожок. Мы не поняли, внимания не обратили. А затем, невинный треск; точно горох по чугунной доске. Что это?! Шарахнулись люди. Еще треск. Прожужжало что-то у уха. Смотрим, рядом, спереди, сзади лежат люди; лежат ровно, ноги вытянули; лежат неподвижно; кажется, что шутят они; не хочется верить, что это мертвые. А тут еще треск. Инстинктивно уж мы пригнулись к земле; толпа подалась назад и бросилась бежать, и мы с ней. Улица опустела. А в это время цепь солдат разомкнулась, и из-за нее показался отряд конногвардейцев; галопом, с саблями наголо ринулся он на бегущую толпу; мял бегущих, давил лежащих на мостовой раненных, убитых; галопом пронесся вплоть до угла Гороховой, повернул обратно и скрылся за цепью пехоты. И опять стальной цепью сомкнулись солдаты. Тогда народ бросился подымать раненных и убитых. И что тут происходило?! Эти лица! Эти речи! Эти сцены! Их во век не забыть! - «Что это?! За что? Разве мы нападали? Ведь мы безоружные! Мы миром!» Стоит крестьянин в поддевке, слезы в глазах; исступление во взоре, - «Нет у нас царя! Нет царя!» Группа. Bсe кричат. В середине молодой студент. - «К оружию! Достанем оружие, а то всех перебьют!» Вот, отставной генерал. К нему бегут. Сначала почтительно - «Ваше превосходительство! Что же это? Зачем убийцы стреляют? Ведь мы миром, без оружия!»- Новые подбегают. На генерала наседают. - «Скажите им!» - Энергичнее, энергичнее. Генерал начинает чувствовать себя неловко. Его толкают к цепи. - «Вот эти!»- указывают. Чтобы избавиться; он идет к солдатам и скрывается за цепью. А вот и раненные, убитые; их кладут на извозчиков: экипажи доставляют с соседних улиц; всех седоков сбрасывают, экипажи направляют сюда. Молодой студент в мундире, еще мальчик - затылок размозжен пулей; старик рабочий, ран не видно, - но мертв; мальчик лет 13 и т. д. и т. д. Все больше раненных. Их несут на Невский в аптеку. Я на Невском; он кишит толпой, заливающей тротуары, улицу. Войск, полиции - не видно. Невский во власти народа. Везде, оживленные группы, импровизированные ораторы. С подъезда аптеки, куда вносят раненных, убитых, говорить оратор. Говорит нескладно, но весь, видно, горит негодованием, возмущением, - и слушают его. Он кончает призывом: «к оружию!» Новые трупы, новые раненные; - когда их проносят, все снимают шляпы. Но вот из боковой улицы появляется отряд солдат; Мы на Гороховой. Здесь тоже масса народу; полиции нет; мальчишки останавливают экипажи; высаживают седоков, потешаются. Но вот конный патруль, - разбегаются. Мы на Садовой. То же толпа на тротуарах, возбужденная, взволнованная; но это уже не то, что на Невском; уже страх, паника сковывает уста. Показываются городовые; но еще не в одиночку, а целыми отрядами. Мы опять на Невском. Улицы очищены от народу. Извозчиков еще нет и по пустынной улице медленно, взад и вперед широкой цепью от одного тротуара до другого разъезжают отряды конной гвардии; меж ними маленькие казацкие патрули. А по тротуарам течет волна народу. И с тротуаров по адресу проезжающих несутся приветствия: - «Убийцы! С безоружными, небось, легче воевать, чем в Манджурии!» и т. п. все в том же озлобленно-шутливом тоне. Те молчат; как статуи сидят они на конях; лишь один молоденький офицер отвернулся. Часов около 5 вечера я опять на Невском. Народу меньше. Казаки энергичнее. Вижу, бежит народ; впереди меня 3 казака скачут по тротуару и нагайками разгоняют бегущих; при мне одного парня нагайкой по лицу ударили; вскрикнул, упал, кровь ручьем; - а казак дальше. Вечер, часов 7; электричество не горит; на улицах темно; по Невскому казачьи дозоры. Публика несколько смелее, буйнее; попадает в переулках и казакам, особенно городовым; говорят об убитых городовых. Идут по Невскому 2 рабочих; один остается, а другой перебегает на противоположный тротуар; показывается казацкий патруль и вдруг, первый казак чуть не падает с лошади: рабочие протянули поперек улицы не то веревку, не то проволоку. Испуганные казаки быстро поворачивают лошадей и в галопе уносятся обратно, а за ними с тротуаров несется улюлюканье. Но через 2-3 минуты они, усиленные подкреплением, снова возвращаются и уже по тротуарам нагайками разгоняют улюлюкавшую им публику. * * * В назначенное время торжественно из всех районов двинулись рабочие мирными процессиями; впереди несли хоругви, кресты, взятые из ближайших церквей. Полиция нигде этому не препятствовала; с улицы были убраны городовые; но везде у застав и мостов были стянуты войска; на некоторых мостах стояли пушки и пулеметы - и нигде процессию не пропустили, но переулками и боковыми путями рабочим почти везде удалось пробраться в город; потому-то и было так много рабочих в центре города у Зимнего Дворца. Столкновение меж процессиями и преграждавшими ей путь войсками в одних местах сопровождалось стрельбой в народ, в других обошлось без жертв; очевидно, в зависимости от личных свойств командовавших войсками офицеров, так как поведение рабочих было везде одинаково мирное и настойчивое. Совершенно без крови обошлось на Шлиссельбургском тракте, у Невской заставы; а особенной жестокостью отличился отряд, охранявший Путиловскую заставу, у Нарвских ворот; здесь, когда после 1-го залпа рабочие легли на землю, - в них лежавших сделано было еще несколько залпов. Впечатление, произведенное избиением безоружных, везде было громадное; первым желанием было вооружиться, достать оружие, дать отпор. Но только на Васильевском острове это отчасти было приведено в исполнение; рабочие разгромили здесь какую-то мастерскую и расхватали нечто вроде железных палок, копей; они построили несколько баррикад; захватив одну типографию, - они тут, же отпечатали прокламацию к народу. Но продержались не долго; в других районах до баррикад не дошло. Общее мнение товарищей было, что вряд ли можно ожидать в настоящее время дальнейшего развития движения; и что результаты сегодняшнего скажутся только в будущем. Возвращался я домой поздно вечером, и пришлось мне пройти почти по всему городу. Город имел вид точно готовился к нашествию неприятеля; везде темно, - газ, электричество не горят; все магазины с заколоченными окнами; не успевшие еще, спешно заколачивают это; боязливо пробирающиеся по тротуарам отдельные фигуры горожан и очень частые казацкие патрули. На следующий день стачка еще не уменьшилась; магазины все заперты, и по городу в усиленном количестве разъезжают патрули. Около моей квартиры была устроена одна из мертвецких, где были выставлены трупы убитых. Таких мертвецких было несколько и в других районах, но это была самая обширная, так как сюда, как в ближайшую, были направлены трупы из Путиловского предместья, наиболее пострадавшего. И сюда создалось настоящее паломничество. Пошел и я. Толпой собирался народ у ворот и длинной непрерывной вереницей дефилировал перед трупами. Помню, лежал молодой парень, а около него записка: « Убили с крестом в руке!» И какие разговоры шли здесь! Разговоры вполголоса, с оглядкой на соседа, но все с одним и тем, же содержанием. И в этой медленно дефилирующей толпе, в этих проклятиях, произносимых вполголоса, - в них рождалась Российская Революция... * * * Как же мы должны объяснить себе поведение Гапона и правительства, своим попустительством точно нарочно вызвавшего это движение? Но я не думаю, чтоб здесь была, как высказывались не раз в печати, тонкая, широко задуманная провокация. Когда Гапон начал свое дело, тогда не только такие, в сущности, невежественные люди, какие стояли в то время у власти, но даже и люди, лучше их знакомые с жизнью и настроением рабочих, не могли знать, во что выльется и какие размеры примет движение? И, если мысль о провокации явилась, то в самые последние дни, когда уже движение развилось во всем объеме и когда уже справиться с ним, казалось трудным. Цели, преследуемые правительством или теми, кто Гапона вначале поддерживал, были другие: имелось в виду отвлечь внимание рабочих от политики, дать некоторый выход тому накоплению революционной энергии, которое всем было заметно. Таково было начало Гапониады. Но, начав, Гапон вскоре был сам покорен тем движением, которое он вызвал; он уже не в силах был им управлять, оно его захватило и повлекло за собой. Ни он сам, ни те, кто поддерживал его, - они и не догадывались, какую опасную игру начинают, каким огнем играют! И понятия не имели они о глубине и ширине той революционной энергии, тех стремлений, которым они давали выход; о той силе, которую они вызывали к жизни. А когда власти увидали тот пожар, который они сами зажгли, быть может, у них и явилось желание потушить его; но пока они думали и гадали, дело уж было сделано; да, вероятно, здесь и Гапон их все время обманывал своим мишурным влиянием. Очень возможно, что их несколько примирял с движением его монархический облик. А когда перед ними уже был совершившийся факт, вот тогда, возможно, и явилась мысль о провокации; о том, чтобы дать делу дойти до самого конца и хорошей кровавой баней надолго укрепить шатающиеся основы. Ведь они и не понимают, как можно другим путем укреплять основы. А Гапон? Был ли он искренен, когда проклинал всех расстреливавших народ и когда разрешал народ от присяги? Очень возможно. Движение могло и в самом деле увлечь, покорить его. Человек малообразованный, увлекающийся, не стойкий, - он, вознесенный на такую высоту, мог и в самом деле поверить в свою силу; свое влияние и в свое дело. Но, когда волна спала и маленькой, мало на что годной щепой выбросило его на далекую чужбину, - тогда он разочаровался, разуверился... и вспомнил свои старые связи, свои старые охранные знакомства... А там его, понятно, простили и приняли (4). ГЛАВА V I I. В Иркутске(с февраля по ноябрь 1905 года).Октябрьская забастовка в Иркутске. В конце февраля 1905 года вернулся я в Иркутск. Если на жизнь всей России японская война имела во всех отношениях громадное влияние, то на жизнь Сибири, вообще, и Иркутска, в частности; влияние было это сугубое. Помимо того страшного удара, каким было для Сибири прекращение нормального функционирования Сибирского железнодорожного пути, единственной артерии, соединяющей Сибирь с Европейской Россией и Европой; помимо того еще большего удара, каким обрушилась на нее мобилизация, выхватившая из населения всех мало-мальски годных даже старых, пожилых отцов семейств и это в то время, когда население наше еще не успело оправиться после мобилизации во время русско-китайских недоразумений; помимо всего этого, революционизирующее влияние войны у нас в Сибири бесконечно усиливалось еще тем, что у нас все время шло наглядное in concreto демонстрирование всей гнили, всего неустройства всей нашей государственной машины; она у нас, так сказать на глазах, банкротилась. Мы воочию видели всю неорганизованность, всю неподготовленность нашей армии; мы видели неумение, неопытность, преступную небрежность наших начальников; мы видели все злоупотребления, которые совершались вокруг войны; мы видели тех авантюристов, казнокрадов, что подобно стае коршунов носились над армией, над ее тылом, что за счет народного несчастия строили свое благополучие; у нас на глазах они создавали себе колоссальные богатства и у нас же на глазах шла настоящая оргия, шабаш и безумные кутежи, потому что все это казнокрадство ведь совершалось без стеснения; о нем не только все говорили, оно делалось почти на виду; и чем выше чином был казнокрад, тем меньше он стеснялся. А рядом с этим, мимо нас безостановочно тянулись туда, на поля Манджурии, поезда, полные людей, - и также безостановочно тянулись оттуда санитарные поезда, полные обломков людей, калек, больных; и именно это параллельное течение этих 2-х людских потоков, так ужасно непохожих друг на друга, - производило особенно сильное впечатление; казалось, что эти именно калеки только недавно проехали туда здоровые, полные сил, - и казалось, что разорви мы эту цепь, прекрати мы это течение туда, - мы остановим, прекратим это ужасное течение оттуда. И если в России: обо всем этом тоже знали, все это чувствовали, то здесь в Сибири мы все это видели, - и безостановочно будил нас, бередил нас и не давал покоя этот бесконечный поток люден туда и обратно. Вполне понятно, что именно среди железнодорожных рабочих и служащих, обслуживающих это движение и, следовательно, как бы помогающих ему, должна была родиться и стать очень популярной мысль: прекратить обслуживание дороги, забастовать; чтобы этой забастовкой заставить правительство прекратить войну. На бывшей в это время конференции представителей социал-демократических организаций Сибири этот вопрос был поставлен и было решено напрячь все усилия для пропаганды этой идеи и для проведения ее в жизнь. Сибирский Союз в это время из организации законспирированной, находящейся над комитетами, превратился в коллегию, избираемую на съезде представителей всех комитетов и социал-демократических организаций Сибири. К этому времени у нас в союзе, были комитеты: Омский, Томский, Красноярский, Иркутский, Читинский и Харбинский; каждый из этих комитетов в сфере своего влияния имел прилегающие железнодорожные участки. Помимо комитетов, по линии железной дороги почти везде, где имелись железнодорожные депо, были группы, более или менее хорошо организованные. Для приведения в исполнение решения конференции мы усилили деятельность этих групп; в тех депо, где их не было, - старались организовать новые, - и везде в частных агитационных беседах, речах на собраниях, в прокламациях, усиленно проводили ту идею, что необходимо положить конец безумной Манджурской авантюре и что положить ей конец можно железнодорожной забастовкой. И очень возможно, что эта наша агитация, находившая везде горячий отклик и, понятно, не оставшаяся неизвестной правительству, что она (понятно, в связи с целым рядом других причин) не оказалась без влияния на решение правительства прекратить войну. Эта же наша деятельность по подготовке забастовки несомненно много содействовало тому, что октябрьская забастовка так быстро и дружно разлилась по всему железнодорожному пути. Но кроме этой работы наши сибирские организации делали и другое очень серьезное и трудное дело: они вели очень энергичную пропаганду среди войск; войска проходили мимо целой цепи наших организаций; и все эти комитеты и группы издавали специальные листки к солдатам, которые тысячами распространяли среди солдатских эшелонов. Если где образовывалось скопление солдат, там заводились с ними организованные связи. Удачные издания одних комитетов перепечатывались другими и литературу, изданную нашими организациями для солдат, нужно считать сотнями тысяч экземпляров. И так как солдаты и сами были очень возбуждены и сами многое видели, о многом задумывались, - то наши листки, разъясняющие им то, о чем часто они и сами смутно догадывались, пользовались большой популярностью и имели громадное влияние. * Понятно; эти собрания не могли оставаться неизвестными администрации; но она уже тогда начинала приходить в то полупараличное состояние, которое закончилось полным параличом в октябре. Начался этот полупаралич провинциальных властей со времени провозглашения эпохи «доверия» - с этого момента они начали терять почву под ногами. До того времени им было все ясно и определенно, они отлично понимали свои обязанности; знали, что они существуют для того, чтобы давить всякое проявление самодеятельности, всякий намек на нее - но «доверие» сразу затуманило эту ясность. До какой степени «доверие»? Кому? В каких случаях? Приученные и привыкшие все делать, прислушиваясь к дуновениям в высших сферах, они тщетно искали там определенных, ясных указаний. И именно эта неопределенность вносила необыкновенный хаос в их деятельность. И чем дальше, тем шло все хуже. Появился указ, приглашающий всех высказываться; и общество это поняло, как разрешение свободно собираться и свободно говорить на этих собраниях; и на этом основании не спрашивали даже разрешения на собрания; запрещения игнорировали, как незаконные, - и захватным путем начинали осуществлять полную свободу собраний и слова. Администрация бессильно металась между боязнью дать слишком много воли и еще большей боязнью переусердствовать: отсюда являлась нерешительность, неуверенность. Как иллюстрацию этой нерешительности расскажу об одном банкете. В Иркутске в то время, в Судебной Палате шло слушанием знаменитое дело о Романовцах (5). Население очень интересовалось этим делом; Иркутскому с.-д. комитету даже удалось в день вынесения приговора устроить сочувственную демонстрацию перед зданием суда. В обществе очень хотели чествовать банкетом 2-х петербургских адвокатов (Зарудного и Бернштама), приехавших защищать Романовцев; но разрешения не давали. Тогда осуществили свое желание захватным путем; по предварительному уговору собрались однажды в здании Собрания (клуб Иркутский), заняли одну из больших зал, выбрали председателя и открыли банкет. Полицмейстер сейчас же, понятно, узнал об этом и явился лично на банкет, но вместо того, чтобы сразу же разогнать это незаконное собрание , как он сделал бы раньше и как сделал бы теперь, - он не вмешивался. Начались речи. Пока говорили ораторы - Иркутские, ему знакомые, - он не мешал, - но как только начал речь один из назначенных комитетом ораторов, - он потребовал прекращения собрания. Председатель отказался подчиниться этому распоряжению, как незаконному; полицмейстер пригрозил военной силой - угроза не действует: он вводит тогда в зал роту солдат, располагает ее длинной цепью вдоль прохода; но собрание продолжается, оратор продолжает говорить, председатель собрания не закрывает и публика спокойно сидит на местах. К более серьезному воздействию полицмейстер не решается; он кричит солдатам: «говорите; шумите!» Но солдаты по приказу говорить не умеют: да и что говорить? К счастью полицмейстера, может быть и нашему, при такой обстановке ораторов больше не оказывается, и председатель идет на компромисс: полицмейстер уводит солдат и собрание закрывается (6). А на следующий день в экстренном заседании членов этого собрания обсуждается вопрос об исключении из числа членов полицмейстера и вице-губернатора (правившего тогда губернией: губернатор был в отпуску), как оскорбивших клуб введением в его здание войск. С целью прекратить обсуждение вопроса; полицмейстер, наученный горьким опытом кануна, не нашел лучшего средства; как свести на собрание барабанщиков, которые начинали барабанить лишь только какой-нибудь оратор начинал свою речь. В таком повышенном настроении Иркутское общество пребывало всю весну. Летом наступило некоторое затишье, но к осени возбуждение достигло особенно сильных размеров благодаря опубликованному в августа манифесту о Булыгинской Думе. По отношению к Булыгинской Думе в Иркутске боролись 2 течения. Иркутский комитет Р. Соц.-Дем. Р. Партии проповедовал бойкот, - большинство либеральной публики было против. На всех собраниях мы с товарищами вели проповедь бойкота и мотивы мы приводили такие: Правительство дало Булыгинскую Думу не по своей воле, а под давлением общественных сил; следовательно, если вы не измените группировки этих сил, если вы не уменьшите энергии натиска этих сил, объединившихся на почве неизмеримо более широких демократических лозунгов, нежели осуществляемые в Булыгинской Думе, - правительство должно будет идти на дальнейшие уступки. Если же из атакующих правительство сил отделятся общественные элементы, которые ухватятся за эту Думу, - то произойдет именно то, на что рассчитывает правительство, - расслоение, разъединение оппозиции. Можно ли, спрашивали мы; использовать эту Думу для усиления натиска на правительство? Нет; эта Дума, выбрасывающая за борт государственной жизни рабочих, городскую 6едноту; сводящая почти до 0 участие крестьян, эта законосовещательная Дума, - она ничего нам не даст. А забава ею даст правительству время осмотреться, оправиться. И поскольку я впоследствии когда началось в стране падение революционного тонуса, после ареста совета рабочих депутатов в Питере, после разгрома Декабрьского восстания в Москве, считал ошибочным и неправильным бойкот Виттевской Думы с почти всеобщим избирательным правом, - постольку я и теперь считаю правильной тогдашнюю тактику бойкота Булыгинской Думы в период все повышающегося революционного напряжения в стране. И лучшим доказательством правильности нашей точки зрения является октябрьская всеобщая забастовка. Наша проповедь бойкота в общем встречала в Иркутске сочувствие, но не всегда и не везде. Одни собрания высказывались за бойкот, другие – против. Собрания шли за собраниями; кроме того начали, как грибы после дождя, расти всевозможные союзы; образовались у нас: союз инженеров, союз адвокатов, союз железнодорожный, союз лиц медицинской профессии, союз женского равноправия и т. п. И хотя многие из этих союзов числили членов единицами, - но другие быстро развивались, а главное они импонировали своим числом. Среди железнодорожных рабочих мы в это время особенно энергично занялись организацией «профессионального союза». В Чите такой же союз с тем же уставом уже сильно развился. Мы через наши организации пропагандировали такие же общества с тем же уставом в Красноярске, Томске, Омске и предполагали затем созвать съезд представителей всех этих обществ, чтобы связать их. В ,то время разразилась октябрьская забастовка. Пришла она совершенно неожиданно. Числа 13-го или 14-го октября железнодорожные служащие получили из Петербурга от заседавшего там Всероссийского съезда их представителей предложение забастовать. Бросив работу, они собрались на дворе дома, где помещались их службы, и объявили забастовку, выставив все те общедемократические требования, которыми был в то время насыщен воздух. Вместе с этим они обратились к городскому населению с просьбой о поддержки. И точно искрой, брошенной в пороховой склад, была эта забастовка. В 1-2 дня она разлилась по всем службам всех железнодорожных управлений, перешла на железнодорожное депо, и прекратилось движение по железной дороге; забастовали приказчики; с шумом начали закрываться магазины и от этого город сразу принял необыкновенный вид; забастовали извозчики и остановилось движение по улицам; забастовали учебные заведения, типографщики, чиновники почты и телеграфа; постепенно забастовка начала переходить на правительственные учреждения, в канцелярию окружного суда, контрольной палаты и т. д. К 16-17 числу в городов не было ни одной отрасли труда, где не бастовали бы. Забастовщики ежедневно собираются на народные собрания, которые становятся все более и более многолюдными по мере того, как все новые и новые отрасли захватываются забастовкой. Собрания происходят в самом большом зале города. в Клубе. Для руководства ими организуется президиум из 5-6 наиболее популярных в городе лиц, (я вошел от социал-демократов). По мере роста забастовки увеличивается авторитет этих Народных Собраний, а параллельно с этим растет размах и подъем самой забастовки. К Народному Собранию начинают обращаться со всевозможными просьбами; сюда присылают депутации с приветствиями освободительной борьбе; сюда учреждения, еще не захваченные забастовкой, шлют депутации с просьбой прислать к ним агентов и помочь прекратить работу, - и Народное Собрание посылает, а его распоряжения исполняются. Власть и сила Народного Собрания все растет и постепенно к нему переходит распоряжение всей жизнью города. Начальник службы движения железной дороги просит разрешить рабочим отапливать вагоны, где живут задержанные в пути забастовкой женщины и дети; без разрешения Собрания рабочие не хотят работать. Начальник городской бойни докладывает что рабочие бойни не хотят работать без разрешения Собрания и, так как в таком случай прекратится снабжение города мясом, то он спрашивает, как Собрание находит нужным поступить и т. п. и т. д. А в промежутке меж разрешениями этих неотложных дел, выслушиванием приветствий - идут речи ораторов, выясняющих задачи забастовки, разъясняющих и популяризирующих программы революционных партий. Нельзя сказать, чтобы в этом отношении партийные ораторы вполне были на высоте своей задачи; у нас к счастью не было борьбы меж большевиками и меньшевиками - и социал-демократия выступала единодушно, как одна партия; но у нас были эсдеки и эсеры; и к сожалению больше времени, чем следовало, ораторы уделяли межпартийным спорам; благодаря отсутствию опыта политической жизни ораторы не всегда находили должные границы; и хотя это несколько расхолаживало слушателей, но все же многолюдные народные собрания с полной свободой слова имели громадное воспитательное значение для всего населения Иркутска. Понятно, такие Собрания не могли непосредственно распоряжаться всей сложной жизнью целого города; для разрешения все более сложных вопросов, связанных с забастовкой; для руководства всем делом забастовки, нужен был более малочисленный орган с постоянным составом; таковой и создался в форме стачечного комитета. Народные Собрания, собиравшиеся ежедневно, остались высшей инстанцией; - стачечный комитет стал его правительством. Организовался комитет таким образом: кроме представителей от обеих революционных партий (эсдеков и эсеров), всякая, примкнувшая к забастовке профессия или организация посылала в стачечный комитет 1 или 2 представителей. И по мере роста забастовки, понятно, рос состав комитета и росло его влияние и авторитет: а рост авторитета в свою очередь вызывал и его увеличение: к концу забастовки даже купцы имели в нем своих представителей; а когда забастовали служащие Городской Управы; то и городское самоуправление тоже прислало своих представителей. Но вскоре же после организации Стачечный Комитет распался на 2 комитета. Как я уже сказал, он был организован так, что все профессии и организации имели в нем равное представительство; таким образом, 1000 рабочих железнодорожного депо имели такое же представительство, как какой-нибудь союз женского равноправия, насчитывающей несколько членов или, например, коммерческая служба Управления жел. дор. с десятком-другим служащих. Это показалось рабочим неправильным и они потребовали представительства пропорционально численности профессии или организации. Комитет им отказал. Тогда они выделились и вместе с представителем социал-демократии и почти всеми представителями рабочих (теми, которые находились под влиянием социал-демократии) образовали особый Рабочий Стачечный Комитет. Чтобы не вносить все же дезорганизации решено было заседания этого Рабочего Стачечною Комитета и оставшегося, сохранившего свое название просто Стачечного Комитета, устраивать всегда в одно и тоже время; в одном и том же помещении, только в соседних комнатах. Таким образом сохранялась возможность принимать общие решения, выпускать общие прокламации и сейчас же делиться своими постановлениями. Но где же, спросите вы; была все это время администрация? Ведь в городе был и губернатор, и даже генерал-губернатор, была полиция, казаки, войска? Да, они были здесь, но как бы парализованные, как в летаргии. Генерал-губернатор перевел к себе во дворец юнкеров, единственный надежный элемент, забаррикадировался в нем и, точно загипнотизированный так неудержимо разливающейся забастовкой, старался как можно меньше напоминать о себе. И точно также вела себя н полиция. Впрочем; полиция пробовала и у нас заняться тем же; чем и в других городах - организацией черной сотни. Как и в других городах, у нас это делал не начальник полиции, а один из приставов: он собирал в полиции хулиганов, воров и прочий темный люд, вел среди них пропаганду погрома и организовывал их. Нам это сейчас же стало известно. Для противодействия им мы располагали несколькими отрядами самообороны; сейчас же, с самого начала забастовки занялись мы организацией военной дружины; каждая из организаций должна была выставить определенное число дружинников, вооруженных револьверами. Путем частных сборов мы собрали сумму денег, достаточную; чтобы закупить все имеющиеся в городе браунинги, - и скоро у нас было несколько вооруженных отрядов. Так как полиция открыто поддерживать черносотенцев не решалась; войсками их охранять при исполнении ими своей погромной миссии (как это делалось во многих местах России) тоже не решались (войскам в этом отношении администрация вполне резонно мало доверяла), - то с ними, предоставленными самим себе, мы быстро справились, и первый же энергичный отпор, данный им нашей дружиной; когда они раз попытались устроить избиение расходящейся после Собрания публики (при этом был убит их предводитель), отнял у этой столь же трусливой, сколь и блудливой организации охоту повторять эксперименты. И, если бы не это столкновение и не убийство двух братьев Виннеров, молодых юношей из еврейской самообороны; случайно попавших в середину черносотенной орды и зверски ими изувеченных, то эти дни забастовки не были бы омрачены никакими жертвами. Город в нашей власти; в полном объеме осуществлена всеобщая политическая забастовка, дружно и энергично выставившая свои лозунги; жизнь города замерла; управление все сосредоточилось в руках Стачечного Комитета, прекращающего работу, если она еще где-нибудь продолжается, назначающего часы для торговли предметами первой необходимости и даже регулирующего цены на них. Что же дальше?И тут мы сразу уперлись в тупой угол. К кому предъявляем мы наши требования? Ведь не к местному генерал-губернатору, а к центральному правительству, находящемуся в Петербурге; а от Петербурга мы отрезаны почтово-телеграфной забастовкой. До каких же пор бастовать? И быть может там, в России, революция уже победила (как оно и было в действительности), а мы лишь напрасно продолжаем борьбу? К тому же дальше развиваться стачка не могла, - она уже все захватила. А народное движение, если оно не движется вперед, - оно неизменно начинает двигаться назад. И начали замечаться признаки падения революционного настроения; а параллельно с этим начал проявлять признаки жизни и генерал-губернатор. Прежде всего он дал нам знать, что не допустит демонстративных похорон братьев Виннеров, убитых погромщиками. Представителям Стачечного Комитета, явившимся к нему для переговоров, он заявил; что, если мы, несмотря на запрещение, все же устроим демонстрацию , - он объявит город на военном положении и прикажет стрелять в демонстрантов. Но затем, похороны все же разрешил, только с условием не носить никаких знамен. Он попробовал запугать нас столкновением с черносотенцами, но мы заявили ему, что; если только их не поддержит полиция; - мы с ними легко справимся. И действительно, демонстративные похороны с несколькими тысячами провожавших прошли совершенно спокойно. Но генерал-губернатор уже совсем очнулся. На следующий день во время нашего Собрания, на боковых; прилегающих улицах появились отряды пехоты; их появлялось все больше и больше: постепенно они стягивались к месту Собрания, окружая его густым кольцом. - и только заблаговременно закрыв заседание, мы предупредили столкновение. А с вечера начались аресты; были арестованы и препровождены в тюрьму все, кто только чем-нибудь проявил себя в эти дни. На следующий день здание клуба, театра и все другие помещения; где были большие залы, - охранялись отрядами войск и таким образом мы были лишены возможности созывать Народные Собрания. Аресты продолжались. Оставшиеся на свободе члены Стачечного Комитета должны были скрываться на чужих квартирах и собираться с опаской. Настроение в городе быстро пошло на убыль. И особенно обескураживало то, что решительно ничего не было известно, что делается в России? Отсутствие ясной, определенно поставленной цели лишало забастовку смысла; не понимали, зачем ее продолжать? И целые отрасли труда оживали; работы постепенно возобновлялись; стачечники постепенно принимались за работу, даже не дожидаясь объявления стачечных комитетов о прекращении забастовки. Но прошел день, другой и по городу начали ходить неопределенные слухи о манифесте Говорили о какой-то телеграмме, полученной железнодорожным начальством по железнодорожному телеграфу из Томска. Правительственный телеграф все еще тогда не действовал и мы все еще были отрезаны от Петербурга. Слухи самые неопределенные, самые туманные, - но они все растут; вместе с этим обнаруживается какое-то замешательство в очнувшихся было кругах администрации; и снова оживают приунывшие обыватели. Вечером в клубе пристали с расспросами к полицмейстеру, но он ничего не знал; приободрившиеся общественные деятели подъехали к генерал-губернатору; но и ему ничего не известно; как только что получит, обещает немедленно дать знать населению. А в арестах какая-то заминка: с репрессиями приостановка... Наконец, пришла телеграмма. Сомнения не было: мы имели манифест 17 октября. * Помню, день был ясный, солнечный. Я только что, переодетый в офицерский костюм, глухими переулками добрался до квартиры, где скрывался последние дни от усиленных розысков полиции; вдруг сильный звонок!Ко мне вбегают, обнимают, целуют! - Свобода!- кричат. - Манифест! Скорее идем! В клубе уже тысячи народа! Тебя выбрали председателем. Ждут! Ошеломленный этими новостями, еще не вполне отдавая себе отчет во всем этом, я сбрасываю себя военный костюм, - и мы бежим в клуб. А на улицах необычное оживление; въезд группы народа, читающие, обсуждающие манифест; знакомые, незнакомые кричат друг другу поздравления; многие тут же на улице обнимаются, целуются; - и все это тянется в клуб, на собрание. По дороге мне удается достать экземпляр манифеста. Все то, что мы требуем, о чем мечтаем - все здесь есть! Все наши лозунги - они здесь!Сомнения нет - это победа, победа крупная! Пусть все это только обещано, но оно обещано. Для меня ясно было, что с этим моментом, с моментом, когда прижатая к стене власть, растерявшись, дала эти обещания, - с этим моментом открывается новая страница в жизни России. Пусть власть сделала это, ошибочно переоценив организованность силы натиска и недооценив свои еще не в конец дезорганизованные силы; - пусть, придя несколько в себя, она и сделает попытки вернуть прошлое - отныне это невозможно. Все это передумал я, спеша в Собрание. И вот я в собрании. Зал битком набит народом, радостно возбужденным. Открываем Первый Свободный Митинг свободных граждан - так мы его тогда назвали. Начались речи. Критиковали манифест и критиковали жестоко. Говорили, что кроме обещаний в нем ничего нет, и что поэтому нельзя прекратить борьбы, нельзя складывать оружия, пока не станут фактами, реальностями все эти обещания. Я соглашался с этим, но я счел нужным указать на то, что все же мы пережили перелом! Прошлое умерло и нет ему возврата! И теперь, после Декабрьского избиения, после военно-полевой юстиции, после Белостока, после Седлеца, после Закона 3-го июня, я, выброшенный далеко за пределы России, с полным убеждением повторяю то, что говорил тогда: 17-го Октября умерло прошлое, и нет ему возврата! И нет ему возврата, несмотря на все эти ужасы, которые оно проделывает, чтобы снова вернуть свое царство... На следующий день были освобождены из тюрьмы все арестованные. Затем пришла амнистия. Администрация совершенно потеряла всякое представление о том, что можно, чего нельзя. А население уже в полном объеме, начало осуществлять все обещанные манифестом свободы. Собрания устраивались совершенно свободно, без всякого разрешения; ораторы пользовались на них полной свободой слова. Газеты выходили, понятно, без цензуры и печатали все, что хотели. Иркутский С.-Д. комитет решил устроить свой митинг и он напечатал об этом объявление в газете; народу пришло много и открыть был митинг «от имени Иркутского Комитета». Обе революционные партии (с.-д. и с.-р.) решили выйти из подполья, организоваться открыто и открыто производилась запись в члены Партии. И эти первые, весенние дни нашей свободы, эти отдающие такой наивностью, таким одушевлением юношеские дни свободы - они у нас не были, как в громадном большинстве городов России, осквернены погромами, - потому что у нас полиция совершенно бездействовала. В это время мы получили известие; что в Красноярске комитет совершенно обезлюдел;туда требовали помощи:решено было, чтобы туда поехал я; и в Ноябре месяце я выехал в Красноярск. . Красноярск я застал только что пережившим очень бурные здесь дни Октябрьской забастовки. Здесь они имели совершенно другой характер нежели в Иркутске, так как по составу своего населения Красноярск сильно отличается от Иркутска. Вообще будущему теоретику революции и народных движений наша Октябрьская забастовка может дать очень богатый материал для изучены: железнодорожная и почтово-телеграфная забастовки разорвали всю необъятную Россию на целый ряд отдельных, совершенно предоставленных самим себе, центров, - и каждый из них на свой особый лад решал поставленную ему задачу. Забастовка пришла так неожиданно, к ней так не были подготовлены, что, понятно, не могло быть и речи о заранее выработанном плане; а опыта тоже никакого не было. И вот, в зависимости от состава населения; от степени сознательности руководящих групп, - различные формы и течения принимала как сама забастовка, так и жизнь в те первые дни «свободы», когда растерявшаяся администрация предоставила населенно полную свободу устраиваться по своему. Красноярск, относительно небольшой город, с населением тысяч в 30, но Здесь находятся мастерские Сибирской Ж.-Д., на которых работают до 5000 рабочих, и, понятно, в таком небольшом город эти тысячи рабочих, во время забастовки должны были явиться главным нервом движения; - и в действительности, они всем заправляли. А так как к тому времени среди них была многочисленная и хорошо организованная группа социал-демократов (пропаганда здесь началась еще с 97-го-98-го года) то через них всем заправлял Красноярский С.-Демокр. Комитет! В отличие от Иркутска здесь было довольно много черносотенцев, сорганизованных вокруг своего клуба; рекрутировались черносотенцы главным образом из мелкого мещанства, мелких торговцев, извозчиков: Они были здесь настолько сильны, что однажды во время дней «свободы» они осадили дом, где происходил митинг; началась паника; несколько человек в испуге выбежали на улицу; они тут же зверски были убиты; и дело могло бы кончиться такой же катастрофой, как в соседнем Томске, если бы не мужественное отстреливание небольшого отряда дружинников из железнодорожных рабочих . Как и в Иркутск, Здесь социал-демократы решили выйти из подполья и соответственно с изменившимися политическими условиями широко провести в организации принцип избирательности (вплоть до комитета) и возможной гласности:. В данный момент шла запись в члены Партии. Записалось уже около 500 человек; но нельзя сказать, чтобы записавшиеся в Партию с достаточной серьезностью относились к этому акту записи; в особенности это замечалось по отношению к учащимся; например, записалось в Партию боле У комитета была типография, которая в большом количестве выпускала нелегальную литературу; меж прочим большим успехом среди населения пользовался выпущенный комитетом сборник революционных песен; его пришлось 2-3 раза отпечатать и каждый раз в нескольких тысячах экземпляров; для такого города, как Красноярск, это было очень много, - и революционными песнями город был насыщен; постоянно они распевались на улицах взрослыми и детьми; ими всегда начинались и заканчивались все собрания. Были также организованный связи с приказчиками, телеграфистами, рабочими «винной монополии» и других профессий, с солдатами. Но кроме этой социал-демократической организации в городе существовала в то время и другая беспартийная организация рабочих, которая собственно и заправляла всем - это был так называемый Рабочий Комитет из представителей различных цехов и профессий. Главную его массу составляли представители цехов железнодорожных мастерских, но были представители и других рабочих (винной монополии, лесопилки, телеграфистов. приказчиков и т. д.). Комитет этот был, как я уже сказал, беспартийный, но за малым исключением он весь состоял из социал-демократов и сочувствующих им, и председателем его был, входящий в его состав представитель Красноярского Соц.-Демократическаго Комитета. Тот месяц, который я прожил в Красноярске, никто не мешал Рабочему Комитету постепенно развиваться и крепнуть. А губернатор? Губернатор старался как можно меньше появляться и все время держался в тени по той простой причини, что у него не было войск: находившаяся в Красноярске казацкая сотня и железнодорожный батальон были очень ненадежны; казацкая сотня раз даже чуть не забастовала из-за каких то недоразумений по части провианта, а железнодорожный батальон, состоявший из рабочих солдат, был сплошь охвачен социал-демократической пропагандой. И до Красноярска в составе его было много сознательных рабочих, а за время пребывания в Красноярске; за дни забастовки и «свобод», - он почти целиком стал «неблагонадежен». В казармах открыто читали вслух наши прокламации, которые тут же на глазах у офицеров раздавали наши распространители; вечерами солдаты распевали революционные песни и были очень усердными и ревностными посетителями всех наших митингов и собраний. Ясно, что с этими солдатами нельзя было начать борьбу с нами, - и потому губернатор нам не мешал. Но и мы его тоже оставляли в покое и не переходили в нападение, хотя как раз в это время были много сильнее его и, если бы хотели, могли бы даже арестовать его. Почему мы этого не делали? Прежде всего потому, что знали, что это была бы победа на час. А затем, мы не знали, зачем это нам? что делать дальше? И что эта наша тактика обусловливалась не нашей личной нерешительностью или слабостью, а причинами; лежащими глубже, в степени зрелости самого освободительного движения, - видно из того, что везде, где только благодаря тем или другим случайно благоприятным комбинациям условий революция делалась госпожой положения, везде она проявила ту же полную неспособность к наступлению. Так было в Одессе с «Потемкиным»; так было во Владивостоке; когда в . течение нескольких дней лучший порт, полный массы боевого материала был в руках революции; так было в Чите с ее громадным арсеналом оружия; так было в Иркутске во время солдатской забастовки и т. п. Вылившись в форме. того или другого взрыва, революция затем ограничивалась обороной, защитой: она созрела для забастовки, для обороны, для пассивного сопротивления, - она еще не была созревшей для атаки, для нападения, для творчества. Как бы то ни было; не думая о захвате власти, аресте, губернатора и т. п. вещах, мы спокойно занимались своим делом, стараясь Одной из первых мер, проведенных нами в жизнь, было введение 8-ми часового рабочего дня в железнодорожных мастерских. Так как администрация отказала нам в этом требовании, то мы ввели его своей властью, взяли захватным путем. В назначенный день в 4 часа дня, когда истекало 8 часов работы, - нисколько рабочих овладели гудком и дали сигнал к окончанию работ. Рабочим этот способ очень понравился и с тех пор вплоть до разгрома (уже поели моего отъезда) рабочий день продолжался 8 часов. Мы разослали своих агентов в ближайшие депо по линии, с целью вызвать везде такое же насильственное введение 8 часового рабочего дня; они созывали там собрания; рассказывали о значении 8 часового дня, истории его завоевания, необходимости его, - и во многих местах тем же захватным путем 8 часовый рабочий день был введен. Расценки для всех почти категорий рабочих к моему приезду были повышены и в общем стояли настолько высоко, что рабочие были довольны; только чернорабочие и молотобойцы вели еще борьбу с начальством за повышение платы. Но не только в железнодорожных мастерских заметно было улучшение материального положения рабочих, - и во всех других профессиях началось усиленное движение рабочих в том же направлении, а Рабочий Комитет всей силой своего влияния всегда вмешивался в эту борьбу, помогая рабочим. Так, помню, при мне обратились в Комитет рабочие лесопилки после того, как сами безуспешно вели уже несколько дней забастовку. Комитет послал к хозяину депутацию, пригрозил ему бойкотом его товаров (а лесопилка доставляла лес в железнодорожные мастерские); - и хозяин немедленно удовлетворил все требования рабочих. Характерный факт: в числе прочих, было требование, чтобы всем внутренним распорядком работ, увольнением и приемом рабочих заведовали сами рабочие; хозяин согласился предоставить заведование внутренним распорядком, но не своим рабочим, а Социал-Демократическому Комитету. «Но», прибавляет он в своем ответе, - «я уверен, что комитет примет во внимание, что частный предприниматель не в состоянии давать рабочим такие же льготы, как казна на железной дороге» Обращались в Рабочий Комитет и безработные - и он многих устраивал; обращались с жалобами на хозяев и мастеров, - и он рассматривал эти жалобы. Много заботы доставила Комитету и происходившая в то время почтово-телеграфная забастовка, которая вспыхнула как раз во время моего приезда. Как известно, она возникла по поводу того, что почтово-телеграфный союз требовал своей легализации т. е. официального признания и за почтово-телеграфными чиновниками той свободы союзов, которая 17-го Октября была обещана всем гражданам. Забастовка эта страшно потрясла всю Россию; особенно сильно было ее влияние в провинции; и сугубо в Сибири. Но правительство не обращало на это никакого внимания и не уступало. Это была первая .отрезвляющая реализация Виттевского манифеста о «свободе союзов». Рабочий Комитет, чем мог, поддерживал Красноярских почтово-телеграфных забастовщиков. Когда губернатор, желая запугать их, пригрозил нападением. черносотенцев, рабочие предложили им перенести свои собрания в мастерские; куда черносотенцы, понятно, не осмелятся явиться. Очень серьезным и интересным явлением в эти дни .были периодически устраиваемые Народные Собрания. Устраивались они довольно часто, обыкновенно но Воскресениям в Сборном Цехе, громадном помещении, могущем вместить несколько тысяч народа. Устраивались они от имени Красноярского Социал-Демократического Комитета и председательствовал на них всегда представитель С.-Д. комитета. Кроме железнодорожных рабочих на них приходила масса горожан: приказчиков, рабочих других профессий, солдат железнодорожного батальона и проезжающих эшелонов, учащихся. Эти Народные Собрания были высшей инстанцией и сюда апеллировали все недовольные решениями Рабочего Комитета. Начинались они всегда хоровым пением рабочего гимна и других революционных песен. Затем шли речи на политические темы, излагались жалобы, просьбы, - и заканчивались Собрания опять пением революционных песен. Бывали Собрания, посвященные специальным темам, например, аграрному вопросу. Но особенно интересны были не эти общегородские, а экстренные собрания исключительно рабочих железнодорожных мастерских, собираемые в будни, сейчас же после работ, в экстренных случаях. Я помню экстренное собрание, созванное по случаю первой попытки правительства Витте применить военный суд. По железнодорожному телеграфу (правительственный тогда бастовал) мы получили известие, что на станции Кушке С.-Азиатской железной дороги преданы военному суду инженер и несколько служащих за участие в железнодорожном Союзе и за свою деятельность во время забастовки. Нам телеграфировали, что им грозит смертная казнь, что необходимо действовать быстро и решительно, чтобы спасти обреченных на смерть. Центральный Комитет Железно-Дорожного Союза и собрания рабочих в Москве, Самаре и некоторых других крупных железнодорожных узлах послали тогдашнему министру-президенту Витте и военному министру требование немедленно телеграфным путем отменить предание обвиняемых военному суду; они назначили определенный срок и заявили, что если до указанного часа не последует требуемого ими распоряжения, - они немедленно объявят железнодорожную забастовку. Копии своих телеграмм они разослали по всем железнодорожным станциям. Мы решили созвать экстренное Собрание рабочих, вывесив по всем мастерским полученные нами телеграммы. Рабочих известие это сильно взволновало; они понимали, что это надвигается «старое», (то, что потом действительно пришло); они понимали, что необходимо дать резкий отпор; что нужно попытаться вырвать у Витте несколько молодых жизней: мы тогда еще не привыкли к смертными казням и на нас еще веяло ужасом от мысли о возможности их применения. Рабочие в громадном числе быстро явились на собрание; ознакомившись с обстоятельствами дела, Собрание единогласно постановило поддержать требование об отмене предания привлеченных военному суду. Мы тут же составили соответствующую телеграмму; послали ее Витте, а копии разослали в Москву и во все крупные железнодорожные центры Сибири и России. Мы Так как срок истекал через несколько часов, то решено было не расходиться и ждать здесь же, в собрании. Собрание продолжалось; каждые 10-15 минут прямо из телеграфа нам приносили телеграммы, извещающие о ходе кампании; телеграф работал безостановочно; с разных концов Европ. России и Сибири получали мы известия, что в настоящей момент везде происходят такие же рабочие собрания и что все они присоединяются к выставленному требованию. Соединенные телеграфом в одно Собрание, - ожидали все ответа Правительства. Все пришло в напряжение. Все ждало. И чувствовалось, какую громадную силу представляла в то время организация. Витте это понял. Он уступил. Не дождавшись истечения ультимативного срока, он отменил постановление о предании обвиняемых военному суду. Собрание разошлось с чувством глубокого удовлетворения. Нам удалось вырвать у смерти несколько человеческих жизней. С этим, расходясь по домам, поздравляли друг друга рабочие, счастливые одержанной победой. И мы не знали тогда, что пройдет год, - и смертная казнь станет обычным, ежедневным явлением, - и начнется мрачная эпоха бесчисленных смертных казней, и до сих пор тяжелым кошмаром нависшая над страной... Помню я еще боле интересное экстренное Собрание, созванное уже в конце Ноября, пред моим отъездом из Красноярска, по просьбе солдат железнодорожного батальона. Я выше уже говорил, что батальон сплошь был охвачен революционной пропагандой, и начальство поэтому решило заняться разряжением скопившихся в нем революционных сил. С этой целью одна рота была отослана за 300 верст; солдаты поняли, что это подготовляется их «успокоение», - и были, понятно, этим очень недовольны. Затем, и другая рота получает приказ готовиться к отъезду; а в это время прибывает в Красноярск штаб (все начальство) этого полка; который солдаты уже давно ожидали и с которым имели старые счеты. Солдаты решили воспользоваться тем обстоятельством, что они еще пока хозяева положения, - и теперь же свести все свои счеты с штабом. Выработав требования, - они их предъявили начальству. Но в ответ на это начальство повторило свой приказ об отправке еще одной роты на линию, - и усиленно само начало готовиться к отъезду из Красноярска. Тогда солдаты, не желая доводить - дело до столкновения (в Красноярске к тому времени уже были свежие войска, хотя еще мало), решили обратиться за помощью к рабочим и попросили комитет созвать Экстренное Собрание.Собрание было созвано; пришли на него в громадном числе и солдаты. В высшей степени эффектное зрелище представляла эта масса рабочих, перемешавшаяся с солдатами в их высоких меховых папахах u дружно пред открытием собрания поющая рабочий гимн. Когда собрание было открыто, представитель солдат познакомил нас - «Чем же мы можем помочь вам?» - спрашиваем мы. - «Не выпускайте штаба из Красноярска!» Собрание единогласно постановляет: штаба не выпускать. В это время слышим шум и волнение среди солдат: прибежали с линии и сообщают, что штаб садится в вагоны. Солдаты страшно взволновались и хотели уже 6ежать за винтовками; но мы их удержали. - «Вы можете быть совершенно спокойны», - говорили мы им, «раз Собрание сделало постановление, то ни один из железнодорожных служащих не осмелится нарушить его» И от имени Собрания мы посылаем в депо приказ: локомотивов не давать, машинистам не ездить, а вагоны штаба перекатить на запасный путь. Таки сделали. Штаб остался. Увидев себя, как в западне, штаб решил вступить в переговоры. К нам на. Собрание явился молодой офицер и попросил позволения переговорить с солдатами. Мы разрешили. Офицер занял на кафедре место рядом с председателем; а кафедрой служила маленькая площадка на каком-то остове машины, находившейся в середине цеха. Рабочие пропустили солдат вперед, - «Я пришел» - говорит офицер,- «узнать ваши требования ». - «Мы их уже подавали, но можем повторить!»- И они начали диктовать, а офицер записывать. Главным образом требования состояли в возврате задержанных начальством денег. И тут поразительную память обнаружили солдаты; выплывали на сцену рубли, копейки, взятые с них год, полтора тому назад. Затем; шло требование о передаче в распоряжение солдат «экономических» сумм, как собранных за счет их лишений; требования об амуниции, обуви и, наконец; о выпуске в запас неправильно задерживаемых. Все это офицер записывал. Мы ему тут же ответили, и указали, что не им, офицерам учить рабочих ценности жизни. Рабочие, говорили мы, только на днях рисковали всем своим благосостоянием, рисковали свободой, чтобы вырвать у смерти несколько жизней: а то Правительство, представителем котороого он теперь является, тысячами уложило людей на полях Манджурии. И пусть он поэтому будет спокоен; их жизни никакой опасности не грозит. Он попробовал еще говорить, но вскоре отказался; заявив, что ораторским талантом не обладает, и ушел, общаясь к следующему дню дать ответь. В этот же день вечером я уехал в Иркутск. Мне передавали, что часть требований была исполнена и солдаты отпустили
ГЛАВА I X. Солдатская забастовка в Иркутске в Декабре 1905 г. Приехал я в Иркутск в последние дни ноября, как раз накануне знаменитой в Иркутске солдатской забастовки: о происхождении ее я узнал следующее: местные революционные комитеты социал-демократов и социалистов-революционеров при своей работе среди солдат местного гарнизона натолкнулись на целый солдатский заговор. Познакомил их с подробностями этого заговора один унтер-офицер, пользовавшийся среди солдат громадным влиянием, который во главе группы сознательных солдат вел энергичную борьбу с заговорщиками. Страшно озлобленные всеми перенесенными ими во время войны лишениями, солдаты в последнее время пришли в особое возбуждение по поводу того, что их не отпускают домой, не отправляют в запас; начальство свое они презирали и ненавидели; - и вот, среди них образовалась организация, имевшая довольно широкие разветвления среди всего Иркутского гарнизона, решившая по данному сигналу захватить винтовки с патронами, перебить всех генералов, офицеров, разгромить склады, магазины, и с оружием в руках искать правды. Унтер-офицер обратился к революционным организациям с просьбой помочь ему направить это солдатское движение по руслу сознательной борьбы. Наши агитаторы, организаторы познакомились с заговорщиками, начали посещать казармы и вести пропаганду; они старались объяснить солдатам всю сумасбродность их плана, который им никакой пользы не принесет, а только вызовет лишнее кровопролитие. Вскоре мысль об избиении офицеров и грабеже уступила место мысли о борьбе с правительством за осуществление своих требований; в выработке этих требований, формулировали их и помогали солдатам революционеры. Уже через несколько дней движение настолько окрепло, что солдаты официально потребовали у начальства разрешения устроить в казармах открытый митинг для выработки своих требований. И начальство разрешило, потому что знало, что иначе митинг состоится без разрешения. Митинг состоялся, - за ним другой. На митинг не пускали никого кроме солдат и казаков (казаки были самыми энергичными «забастовщиками»); но мне удалось пройти. Все требования были единогласно приняты и посланы к начальству с заявлением, что ответ должен быть дан в течение 24 часов. Об уровне сознательности этих солдат, требующих созыва Учредительного Собрания, можно судить хотя бы по тому обстоятельству, что унтер-офицер, председатель стачечного комитета, очень хорошо знавший своих солдат, просил нас в речах и прокламациях поменьше и поосторожнее говорить о самодержавии, так как это, мол, может повредить делу. На завтра назначен был митинг, на который уже должен был быть доставлен ответ начальства. * * Когда на завтра, на митинге, собравшем еще больше солдат, председатель начал читать ответ - воцарилось гробовое молчание. Начальство просто отписывалось. Только самые пустые незначительные требования были удовлетворены, относительно же большинства начальство отвечало, что их удовлетворение зависит от высшего начальства. Когда чтение ответа закончилось, гул недовольства прошел по залу. - «Довольны вы ответом?» - спросил председатель. - «Нет! нет!» - раздались голоса. - «Значить, мы должны исполнить то, что постановили. Значит, забастовка?» - «Да! Да! Ура!»... Солдаты махали шапками, папахами, кричали: ура! Но в чем собственно должна выразиться забастовка, едва ли всем было ясно. Когда собрание несколько успокоилось, председатель снова берет слово. - «Мы, значить, объявляем», - говорит он, - «что с этого момента все наше начальство смещено со своих постов. Мы выбираем себе нового начальника гарнизона, нового коменданта города; каждая рота выбирает себе нового командира; казацкая сотня выберет нового начальника. Отныне мы исполняем приказания только своих новых начальников! Согласны?» Гул одобрения. И тут же, немедленно приступили к выборам нового начальства. И вот, тут, когда приступили к выборам, сразу же прозвучали первые подозрительные ноты. Дело в том, что движение это было исключительно движение солдатское - нижних чинов; офицеров среди забастовщиков почти совсем не было; среди тех нескольких офицеров, которые примкнули к движению, не было ни одного с особенно выдающейся энергией или популярностью; душей всего движения был унтер-офицер. А на все эти начальнические должности стачечный комитет считал необходимым назначить офицеров. Первый же офицер, предложенный в коменданты города - отказывается; предлагают другого - и этот отказывается; третий после убеждения и просьб соглашается, но, видно, с большой неохотой. Почти тоже происходит с выборами начальников рот. Новый начальник гарнизона тут же вступает в исполнение своих обязанностей и отдает приказ: немедленно всем идти в казармы, взять свои винтовки и ждать дальнейших приказаний. Началась забастовка. * * Солдаты перестали исполнять приказания «законного» начальства; они не препровождали обвиняемых арестантов в суд; не несли караульной службы кроме той, которую им назначало их «новое» начальство. От имени забастовочного комитета появилась прокламация; приглашающая население к спокойствию и предупреждающая, что всякая попытка к беспорядку и нарушению спокойствия будет немедленно подавлена вооруженной силой. По улицам появились вооруженные патрули забастовавших солдат, следящие за порядком. И в те несколько дней, в которые длилась забастовка, население было особенно уверенно в своей безопасности . У смещенного начальника генерала Ласточкина войск почти не было, - одна или две роты; а у нового - весь гарнизон города вместе с сотней казаков и явное сочувствие всего населения. И, если бы последний хотел, он легко мог бы заарестовать генерала Ласточкина, генерал-губернатора; и все власти. Некоторые из наиболее молодых и решительных и предлагали ему это сделать, - но никаких агрессивных шагов он не предпринимал. Во всяком случае, и здесь, как и в других местах, где сила случайно оказывалась на стороне революции, имела место та же, типичная для таких моментов в пережитый период революции, пассивная политика, политика нерешительности, точно некоторой растерянности. Чтобы несколько бороться с этим, на линию были высланы агитаторы; они везде оповещали об Иркутской забастовке и знакомили приближающиеся солдатские эшелоны с требованиями, выставленными забастовщиками; об этом было сообщено в Читу, Верхнеудинск, Харбин. И, так как везде были на лицо аналогичные брожения: то в этом отношении опасности было меньше. Более неприятно было то, что с запада, из России постепенно приближались, занимая одну за другой все станции железной дороги, свежие, дисциплинированные войска; к счастью они были еще далеко. Но каждый день был дорог особенно потому, что среди очень нестойкой массы забастовавших солдат такая нерешительность производила очень скверное впечатление; она свидетельствует о слабости; а это всегда дезорганизует, отпугивает слабых, шатких, т. е. массу. И постепенно забастовка начала слабеть. Подошли свежие войска; постепенно одна рота за другой отпадали; как то незаметно, без всякого столкновения, забастовка растаяла, сошла на нет. А когда генерал Ласточкин достаточно окреп, он арестовал начальников, зачинщиков; некоторым удалось скрыться. . ГЛАВА Х. Сибирская железная дорога в Ноябре и Декабре 1905 г. Из Иркутска в Петербург и обратно. Решено было созвать партийный съезд. Последние события так резко изменили политические условия жизни страны, так много новых в высшей степени серьезных вопросов выдвинулось за последние месяцы, что всеми товарищами по партии ощущалась настоятельная потребность собраться; посоветоваться, как должна жить партия в новых условиях? Какую позицию занять? Подготовка к съезду, переписка были оборваны почтово-телеграфной забастовкой; точно день и место съезда нам были неизвестны, а опоздать на него нам не хотелось; слишком важным считали мы его. А потому мы и решили, чтобы наш делегат немедленно выехал, - и я, избранный делегатом на этот съезд, выехал в Петербург. В течение последнего месяца это была моя третья поездка по линии: в начале ноября из Иркутска в Красноярск, в конце ноября обратно в Иркутск, а теперь в декабре я проехал весь путь вплоть до Челябинска; в январе я в 4-ый раз проехал его обратно в Иркутск. А представляла она собой в высшей степени любопытное и необыкновенное зрелище. Это была картина полной анархии и неустройства во всех отношениях. На ней не существовало никакого авторитетного начальства, ни железнодорожного, ни военного, - и находилась она в полном владении солдатских» эшелонов, возвращающихся на родину из Манджурии. Эти солдатские эшелоны не признавали над собой никакой власти; они не только не обращали никакого внимания на железнодорожное начальство, но и своих офицеров они не ставили, ни во что; никакой дисциплины у них не было. Обыкновенно с эшелоном ехали 1 - 2 офицера и то, самые молодые, безобидные, которых солдаты меньше не любили, чем старых, но которых они совсем не слушались. Старые же офицеры под всевозможными предлогами старались отстать от своих эшелонов и битком набивали пассажирские поезда. Эти молодые; неавторитетные офицеры, ехавшие с эшелонами, обыкновенно прятались в свои вагоны и никогда никуда не показывались, не мешая солдатам распоряжаться. Делали они это даже охотно, так как и сами от этого солдатского хозяйничания выигрывали, - а хозяйничание заключалось главным образом в том, чтобы не позволить ни одному поезду обогнать себя. У нас была тогда жезловая система, и они внимательно следили, чтобы очередной жезл не попал к машинисту другого поезда. Был, раз и такой случай: пассажирский поезд успел уйти раньше, чем они хватились; они вскочили тогда на свой локомотив и под угрозой смерти заставили машиниста двинуться вдогонку, - дело кончилось крушением. Благодаря этому, расписания движения поездов не существовало; установилось полное равенство; все поезда двигались одинаково; пассажирский, скорый, солдатский - все двигались со скоростью солдатского эшелона. Разве иногда, ночью, когда все в эшелоне засыпали, очень энергичному машинисту удавалось обогнать его, - но и то, если на следующий день солдаты это замечали, - они восстановляли порядок. Я ехал скорым поездом и путь от Иркутска до Челябинска, который мы по расписанию должны были сделать в 5 дней, - мы сделали в 15. Большинство солдатских эшелонов, именно, в этом проявляло свою «самостоятельность», - но встречались и исключительно буйные: эти безобразничали, пьянствовали, били буфеты, а иногда даже железнодорожных служащих. Особенно они безобразничали, если их заставляли долго стоять на станции, - и потому начальники станции и сами бывали рады поскорее их сбыть. Этими настойчивыми требованиями скорее отправить дальше, предъявляемыми не всегда в деликатной форме, солдаты так терроризировали станционное начальство, что я знаю случаи, когда начальники станции особенно, если знали, что эшелону придется долго простоять, - убегали со станции при приближении эшелона. Не одного начальника они побили; а все почти буфеты переломали. Когда я ехал в декабре, то до Омска я нигде не видал целого буфета. Хаос на железной дороге объяснялся не одним только самоуправством солдат, - в еще большей степени нам приходилось терпеть от несовершенства железнодорожного хозяйства и не умелости, злоупотреблений железнодорожной администрации. Локомотивов было мало, и из тех, что были, многие оказались испорченными; износились. Вагонов было недостаточно, а наплыв пассажиров громадный. Мне с товарищем, когда я ехал в Красноярск, благодаря особой протекции и помощи социал-демократов рабочих, смазчик уступил свою конуру, - и мы здесь на полу, около клозета провели 2 дня и 2 ночи; лежать на спине нельзя было, места не хватало, а только на боку. * * Так как мы ехали очень медленно и на станциях в ожидании свободных локомотивов подолгу простаивали вместе с соседними эшелонами (с впереди и сзади идущими, а иногда нас скоплялось на станции несколько поездов и эшелонов), то я в течение этого 2-х недельного путешествия перезнакомился со многими солдатами эшелонов и подолгу с ними разговаривал. И в своих разговорах с ними постоянной почти темой было, понятно, их «самоуправство» на железной дороге, нежелание их пропустить вперед наш поезд - и едва ли кто бы то ни было, мог бы найти какой-нибудь аргумент против них. После 2-х летнего пребывания на войне, после, бесконечного оттягивания отправки домой, оттягивания, обусловленного возмутительной хозяйственной неурядицей, наконец, доходит очередь до них и их везут. Но везут медленно, везут отвратительно. А домой они страшно рвутся. До них туда, на поля Манджурии доходили смутные слухи и о забастовке, и о крестьянских беспорядках; известия приходили только в виде смутных слухов, письмо редко кому удавалось получать - ведь, мы знаем, как работала военная почта. Объясняется это тем действительно громадным наплывом авантюристок, какой замечался в эту войну. Чистый образ сестры милосердия с ее готовой на самопожертвование любовью к солдату, который остался у нас запечатленным в литературе и в воспоминании после Русско-Турецкой войны, - был почти вытеснен в эту войну типом сестры с завитушками, духами, шелковыми юбками и т. п. И злобу, с которой солдаты говорили об этих, следует объяснить злобой за то, что эти оказались так непохожими на тех, кого они привыкли так ласково называть «сестрица». * * Прожили мы в поезде от Иркутска до Москвы около 3-х недель. И это была любопытная жизнь. Совершенно различные, не похожие друг на друга, из различных классов общества, очутившись все вместе заключенными в одну общую подвижную квартиру, медленно двигались мы посреди хаоса и анархии. Главным образом публику составляли офицеры различных степеней и различного рода оружия; кроме них было 2-3 купца, 2 сомнительной репутации разряженные дамы и я со спутницей. Все эти офицеры в большей или меньшей степени были черносотенцы; были среди них скрытые черносотенцы, но были и явные, злобные. Особенно выдавался один казацкий офицер, который открыто похвалялся, что везет с собой пули дум-дум, «самые подходящие для революционеров». Мы со спутницей держались в стороне. Сказал ли им кто-нибудь, кто мы такие, - или же они догадались об этом по нашему поведению, по тому, что мы на остановках разговаривали с солдатами и рабочими, а с ними не вступали в разговоры, - но вскоре, как передавал нам один иркутский купец, помещавшийся в одном купе с дум-думским офицером, о нас иначе не говорили, как об опасных революционерах. Но по мере движения на Запад, все слабее и слабее становилось анархическое самоуправство солдат; постепенно мы начинали встречать станции, занятые регулярными войсками, - это с Запада на Восток медленно двигался корпус свежих дисциплинированных войск, - и смелее становились офицеры, чаще показывались на станциях. Наконец, самоуправство солдат кончилось; очереди отправки поездов устанавливает уже станционное начальство; быстрее поехали мы, обгоняя солдатские эшелоны и пассажирские поезда, - и совсем ожили офицеры: дерзко и нагло смотрели они на нас и дерзки были их шутки в столовой. Но вот, мы перевалили через Уральский хребет, мы в России, - и тут начинают встречать нас смутные слухи, о каком то московском восстании, - и грозным призраком нависает над нами железнодорожная забастовка. О ее возможности, ее неминуемости говорят на всех станциях; одни говорят громко, другие - тихо, вполголоса; но ее ожидают с часу на час. Мы все же продвигаемся еще вперед, но мы уже последние, - за нами она уже грозно разливается. И опять присмирели офицеры, и реже стали показываться они на станциях. А мы все движемся вперед, все ближе к Москве. Сведения из Москвы все грознее; там идет сражение там стреляют по народу из пушек, там баррикады. Вот, мы и в Туле. В Москве все еще неспокойно, но уже один поезд прорвался и нас уже не задерживают. А везде только и разговоры, что о Москве; купленные нами в Туле газеты тоже полны Москвой; рассказывают и пишут об отрядах дружинников, останавливающих поезда, обезоруживающих офицеров, расстреливающих сопротивляющихся; рассказывают и пишут о расстрелах народа Семеновцами, драгунами, расстрелах тут же на улице, без суда, по подозрению или по первому доносу. И в этой атмосфере рассказов обо всех этих ужасах, в это царство ужасов - мчится наш поезд. Куда несет он нас? В чьи руки? Кто победил? Мы не знали. Но я нисколько не сомневался, что, если нас остановит отряд патриотических Семеновцев, то дум-думский офицер на нас с спутницей донесет; а я видал, что он уверен, что, если мы попадем к дружинникам, - я расскажу им, зачем он везет пули дум-дум. * * - «Спокойно уже у вас?» - спросил я извозчика, везущего нас с Курского вокзала (куда мы приехали); на Николаевский, откуда отходят поезда на Петербург. - «Еще не совсем! Слышите?» Бух! Бух! - «Что это?» - спрашиваю. - «Это из пушек по Пресне стреляют! Шел еще расстрел Пресни. По дороге извозчик указывал мне места, где были баррикады; показывал сожженную газетную будку, полуразрушенную пушечными ядрами стену дома, показал высокую колокольню, откуда солдаты обстреливали улицы, - и много рассказывал о пережитых днях. Так, мирно разговаривая, доехали мы до Николаевского вокзала. Носильщик взял мои вещи и пошел; я за ним; но едва я открыл дверь в вокзал, как попал в объятия жандарма. Он провел руками по мне сверху вниз, ощупывая карманы. Всех пассажиров, входящих на Николаевский вокзал, тогда обыскивали; Николаевский вокзал был очень важным стратегическим пунктом; то обстоятельство, что московские дружинники не могли занять его, (хотя они для этого делали большие усилия), очень помогло более быстрому подавленно восстания, - и правительство, поэтому очень берегло вокзал. Я об этом не знал, и объятия жандарма были для меня неожиданны. - «У вас револьвер?» - спросил он, нащупав его в боковом кармане. Подъезжая к Москве, я на всякий случай положил револьвер в боковой карман. - «Да!» - отвечаю. - «Пожалуйте к ротмистру!» Еще накануне за такой находкой следовал расстрел, так как она считалась несомненным доказательством принадлежности к дружинникам. Но ротмистр, убедившись из моего билета прямого сообщения Иркутск-Петербург, что я только сейчас прибыл в Москву, ограничился тем, что конфисковал револьвер, - и, составив протокол, отпустил меня. В тот же день я уехал в Петербург. * * В Петербурге я узнал, что из-за Московского восстания партийный съезд отложен; когда он состоится - неизвестно; возможно, что месяца через 2-3. Столько времени ожидать в Петербурге я не мог - и поэтому решил сейчас же вернуться обратно в Сибирь. Но как? По всему Востоку вспыхнула теперь забастовка; ею откликнулась Сибирь на Московское восстание; почтово-телеграфная забастовка все продолжалась и таким образом я был совершенно отрезан от своих. Как только восстановилось движение до Челябинска, я выехал, рассчитывая, что, пока я доеду до Челябинска, можно будет ехать и дальше. Так и было. Движение по Сибирской дороге восстановилось; но что это было за движение?! Мы делали не больше 100-150 верст в день; теперь нам уже не мешали солдатские эшелоны: «успокоение» было уже по всей линии, - и полное разрушение всего железнодорожного хозяйства; часами простаивали мы на станциях в ожидании паровоза, а тут же рядом они стояли длинными рядами, искалеченные, испорченные во время усиленной эксплуатации и во время забастовок. Однажды утром мы узнали, что ночью нас обогнал скорый поезд; я был в претензии на кондуктора, почему он меня не предупредил, что скорые поезда уже ходят; я думал пересесть из нашего пассажирского поезда на скорый, доплатив, что полагается, - и неоднократно с ним об этом разговаривал. - «На этот скорый пассажиров не берут: это карательный поезд » - сообщил он мне. Тогда это мне еще мало, что сказало. А меж тем этим поездом проехал знаменитый покоритель Сибири Меллер-Закомельский. Мы ехали теперь следом за ним; мы проезжали теми станциями, где он «действовал». К нашему приезду, очевидно, все успевали прибрать, но я видал; что на станциях все ходят, движутся как в тумане; не было, ни смеха, ни песен, ни шума. Царствовал ужас... Вскоре на одной станции я встретил знакомого, едущего из Иркутска. Увидев меня, он пришел в ужас, точно я был выходец из другого мира. -«Вы?! Куда?» - «Еду в Иркутск!» - отвечаю. Но от этого ответа он пришел в еще больший ужас. И он начал мне рассказывать про покорение Сибири Меллер-3акомельским, про подвиги Ренненкампфа. Все, чем-нибудь проявившие себя во время пережитых событий, арестованы; есть казненные, - и он настоятельно советовал мне, вернуться. Но полагая, что он преувеличивает, я решил все, же ехать дальше. Чем ближе к Иркутску - тем мрачнее, тем больше подавленности. Приехал я в Иркутск ночью. Все рассказы моего знакомого оказались правильными. В Иркутске как раз в это время правил суд Ренненкампфа; на станции стоял его карательный поезд. В городе, царила паника. Пришлось скрыться. Ехать обратно в Россию по железной дороге было рискованно, да я и не хотел далеко уезжать от Иркутска, - и я уехал в маленькую деревушку, верстах в 200 от Иркутска, где поселился под чужой фамилией. Здесь я решил выжидать событий.
Это была маленькая, глухая сибирская деревушка, но и здесь жизнь была полна отблесками переживаемых событий, и сказывалось это иногда в своеобразных явлениях. Крестьяне моей деревушки и соседних главным образом живут извозом, - и за последнее время они начали строго охранять свои права; никаких уступок, поблажек против правил они никому, даже важному чиновнику, на которого раньше и смотреть боялись, - не делали; выходили из-за этого частые недоразумения, столкновения, так как чиновники привыкли совершенно игнорировать правила, охраняющие интересы крестьян, - но крестьяне держались очень смело и независимо. Некоторые сходы делали даже совсем революционные постановления, в роде того, чтобы чиновников, священников и властей даром не возить. А в соседнем городке появился вольнодумный священник; к вящему соблазну населения он начал говорить в церкви проповеди об «истинном христианстве». Говорил в демократическом и даже социалистическом духе. И здесь, словом, везде показались слабые ростки самодеятельности, самосознания. Но ударила реакция, - и сюда докатилась она мутной волной, - и залила все грязью и мутью. Появились и сюда карательные отряды; они не были столь велики и многочисленны, как в Иркутске; состояли они из судебного чина, 2-3 жандармов, чина полиции, - но и этого было достаточно. Зашевелились гады, пышным цветом развился донос; прекратились проповеди «истинного христианства», - и опять все сжалось, сократилось... .
В марте месяце 1906 года вернулся я в Иркутск. Приближались выборы в 1-ую Государственную Думу, и мы решили, что нам социал-демократам необходимо принять в них участие; считали мы это полезным во всяком случае, даже; если бы было мало надежды провести своего кандидата в Государственную Думу, а тем более у нас были очень серьезные основания предполагать, что есть возможность провести мою кандидатуру. Но, прежде чем начинать кампанию, мы запросили наш Центральный Комитет, как он к этому относится? Центральный Комитет, (он был тогда меньшевистский) одобрил и благословил. Наша Иркутская социал-демократическая организация была в то время совершенно разбита нахлынувшей после октябрьских дней реакцией; о прежних днях «свободы» - остались одни воспоминания; снова мы были загнаны в подполье и загнаны разбитыми, ослабевшими в сравнении даже с самыми скверными днями дооктябрьского периода. Избирательную кампанию мы должны были вести в очень неблагоприятных для нас условиях. Главными нашими противниками были кадеты, выставившие своим кандидатом редактора единственной у нас тогда газеты: «Восточное Обозрение» Ив. Ив. Попова. У нас, как я уже сказал, организация была разбита, ослаблена и загнана в подполье; собрания мы могли устраивать только нелегальные; права печатать свои бюллетени мы не имели; газеты своей, такой; как у кадетов, у нас не было; в нашем распоряжении была только наша нелегальная типография; но в ней можно было печатать только прокламации и воззвания. И тем не менее, вскоре же после начала избирательной кампании выяснилось, что мы имеем очень много шансов на победу. Что нам помогало? Прежде всего, хотя у нас была слабая; разбитая, подпольная организация, - но все, же кое-какая организация была - у кадетов ничего не было. Затем, они всю свою деятельность ограничивали печатанием в своей газете полемических статей против, нас, - мы же по мере возможности печатая в нашей тайной типографии отповеди им в виде прокламаций, в то же время очень энергично занялись организацией избирательного комитета; организацией участковых и профессиональных групп избирателей и т. п. (подробнее об этом ниже). Как поставили мы нашу работу в этой атмосфере военного положения, бесконечных репрессий, притеснений? Иркутский Комитет Р. Социал-Демократ. Партии официально в прокламациях заявил, что выставляет меня своим кандидатом. Затем, мы сорганизовали избирательный комитет из избирателей, принимающих эту кандидатуру и решивших ее поддерживать. Поддержка нашего кандидата еще не обозначала принадлежности к социал-демократической партии и, принимая участие или входя в состав этого избирательного комитета, избиратели не очень компрометировали себя перед администрацией. При таких условиях в комитет шли охотнее и шли даже принципиальные противники социал-демократов - некоторые социалисты-революционеры, предпочитающие социал-демократа кадету (впрочем, нужно сказать, что так рассуждали отнюдь не все социалисты-революционеры, а главным образом приказчики и молодежь). В этот избирательный комитет мы пригласили наиболее энергичных, наиболее популярных избирателей и притом только тех, которые живут продажей своего труда. Так мы и назвали всю эту организаций: Избирательный комитет избирателей, живущих» продажей своего труда. Сюда вошли избиратели из приказчиков, служащих различных железнодорожных служб, рабочих депо; типографщиков, ремесленников и т. п. Каждый из этих представителей от профессии собирал вокруг себя тех из своих товарищей, кто соглашался с моей кандидатурой. Таким образом, у нас создавалась организация трудящихся различных профессий, которая могла бы в дальнейшем расти; но это была не социал-демократическая организация, а более широкая. Не только с формальной стороны, для администрации, но и по существу это не была социал-демократическая организация; это была организация лиц, живущих продажей своего труда, принявших кандидата, выставленного Иркутским Социал-Демократическим Комитетом, - решивших, что именно этому кандидату они могут поручить защиту своих интересов в Государственной Думе. Ясно, что благодаря такой постановке дела, хотя это не была социал-демократическая организация, но авторитет и дело социал-демократии много выигрывали. Дело пошло у нас очень успешно, - и скоро там, где раньше ничего не было, выросла довольно сильная организация. С совещательным голосом вошли в нее представитель соц.-демократического комитета, представитель еврейской национальной организации (еще тогда не решившей, за кого голосовать) и представитель польской национальной организации (очень тогда слабой). Давая этим представителям только совещательный голос, мы хотели сохранить за организацией ее классовой характер. Когда были опубликованы избирательные списки, мы разбили свой избирательный комитет на 4 группы соответственно 4-м избирательным участкам. Каждая группа, пригласив себе в помощь молодежь, сочувствующую нашей цели, должна была обойти всех, значащихся в списке избирателей, опросить их о кандидатах и агитировать за нашего кандидата; решено было снабдить этих агитаторов легальной литературой (изданиями «Донской Речи»). Социал-демократы могли от своего имени (а не от имени избирательного комитета) распространять и свою литературу, а так как большинство были социал-демократы, то ясно, что главным образом распространялась наша литература. Но, как бы, то ни было, дело подвигалось, и мы уже должны были подумать о списке выборщиков. Иркутск посылал тогда самостоятельно отдельного депутата (этого права он после переворота 3 июня 1907 года, был лишен; очевидно, в наказание за неблагонамеренные выборы). Население города должно было выбрать 80 выборщиков (приблизительно по 20 в каждом из 4-х участков), а этих 80 выборщиков уже должны выбрать депутата в Думу. Пред нами стал вопрос об отношении к кадетам. Для нас и кадетов вместе черносотенцы были quantite negligeable, но у многих избирателей возникли опасения, как бы, пока мы с кадетами ссоримся, не проскочил черносотенец; и в нашем избирательном комитете было очень много сторонников следующего, пропагандируемого кадетами плана соглашения: производится опрос, анкета среди избирателей; получивший большинство голосов, проводится сообща всеми против черносотенцев; соответственно с этим всей оппозицией вырабатывается один, общий список выборщиков; до выбора предоставляется полная свобода избирательной борьбы. С этим планом и мы были склонны согласиться, но в это время пришли резолюции нашего партийного съезда, связывающая нас в этом отношении по рукам и по ногам: ими запрещалось входить в какие бы, то ни было соглашения с буржуазными парнями. Не без труда удалось нам убедить избирательный комитет отказаться от переговоров с кадетами и повести совершенно самостоятельную кампанию. И нужно сказать, что не потому они с нами согласились, что считали кадета столь же нежелательным, как и черносотенца, - а только потому, что очень верили в нашу победу и очень хотели послать в Гос. Думу именно социал-демократа; а мы, ссылаясь на партийное постановление для нас обязательное, поставили категорически требование не вступать с кадетами ни в какие соглашения. И мы приступили к очень трудному по тому времени делу составлению списка 80 лиц, которые согласились бы, открыто заявить, что они хотят послать в Гос. Думу социал-демократа. Кое-как, но нам это уже почти удалось; нам удалось даже 2 раза выступить на открытых легальных собраниях избирателей - но тут пришло известие о разгоне 1-ой Думы. Разразилась новая волна реакции. О моем пребывании в Иркутске полиция, понятно, уже знала; моя кандидатура, официально выставленная Иркутским Комитетом С.-Дем. Р. Партии, обсуждалась и в газетах, и на собраниях, - и полиция устроила настоящую охоту за мною. Жил я, понятно, не прописываясь, дни проводил в одной квартире, ночи в другой. Раза два полиция была очень близко от меня. Наконец, ей удалось напасть на мой след; однажды ночью целый отряд полиции оцепил дом, где я ночевал; они уже стучались в нижний этаж (я был в верхнем), но затем, почему-то передумали и ушли в соседний дом, который перерыли сверху до низу. Дела никакого не было, организация развалилась, и я уехал в Россию.
Когда начало приближаться время выборов во 2-ую Государственную Думу, в Декабре 1906 года, я поселился в Москве. Хотя в Иркутске полиция меня тщательно искала, но в Москве я поселился под своей фамилией и меня никто не беспокоил. Россия в то время представляла собой как бы совершенно отдельные, мало связанные меж собой области и такие случаи бывали сплошь и рядом. Социал-демократический комитет в Москве был в то время большевистским; меньшевики сорганизовались в отдельную группу и отношения меж ними, как и везде, были самые обостренные, враждебные, отбивали друг у друга районы, профессиональные союзы. Профессиональных союзов было здесь в то время довольно много, около 20, но были они очень различные по силе и развитию. Самым серьезным и крупным считался союз типографщиков, издававший собственную газету, богатый, пользовавшийся большим авторитетом среди типографщиков; он объединял громадный % всех рабочих. Следующий за ним по силе и значению был союз рабочих по металлу; затем уже шли слабые, недавно возникшие союзы текстильных рабочих, рабочих по дереву, чемоданщиков, сапожников, официантов, домашней прислуги и т. д., - и несколько союзов приказчичьих. В большинстве эти союзы были настолько слабы, что не могли даже нанять квартиры для своего правления и по тому они соединялись по несколько вместе и сообща уже нанимали общую квартиру. Все эти союзы сгруппировались вокруг Центрального Бюро Профессиональных союзов, издававшего собственную газету и приютившегося при Техническом Музее. Хотя все эти союзы были легальны, организованные с разрешения администрации, но жили они под вечным страхом закрытия; и страх этот имел вполне реальное основание, так как, то и дело полиция производила обыски в Правлениях то того, то другого союза и по первому подходящему поводу закрывала то один, то другой. При всех почти Профессиональных союзах работали интеллигенты, интересующиеся рабочим движением; работали они в качестве, так называемых «сотрудников»; в одних союзах эти сотрудники входили в число членов Правления, исполняя иногда функции секретарей; в других постоянно присутствовали на заседаниях Правления, не неся никаких определенных функций; большинство их было социал-демократами той или другой фракции. Молодые союзы все почти были под влиянием социал-демократов, что особенно демонстративно сказалось на бывшем незадолго перед тем в Москве съезде представителей приказчичьих обществ и союзов, который принял целый ряд резко социал-демократических резолюций. А меж тем к этому времени благодаря началу избирательной кампании значение этой газеты очень выросло. Дело в том, что по избирательному закону того времени приказчики имели почти решающее значение на исход выборов, так как все они выбирали промысловые свидетельства, дававшие избирательное право. В виду этого и кадеты решили тоже издавать специальную газету для агитации среди приказчиков в свою пользу. Они организовали газету «Приказчик», в которой сотрудничали лучшие кадетские силы (там помещали статьи П. Струве, проф. Шершеневич и др.). Несмотря на нашу полную финансовую необеспеченность, мы все же относительно аккуратно выпускали номера и вели очень энергичную полемику с кадетами; влияние нашей газеты росло; приказчики заинтересовались нашей полемикой с «Приказчиком» и нам удалось просуществовать вплоть до дня выборов в Москве, когда наша газета была закрыта, номер последний конфискован (потому, что мы напечатали список социал-демократических выборщиков), а редактор привлечен к ответственности - обычная в то время участь всех почти профессиональных органов. Но особенно интересной для меня была работа на состоявшейся в то время в Москве «Конференции рабочих по металлу», куда я был приглашен для исполнения обязанностей секретаря конференции. Предполагался областной Съезд Московской области, но приехали, хотя и в небольшом числе, представители и из других областей: из Баку, Саратова, Смоленска, Царства Польского, Литвы и др., - и потому решено было его назвать всероссийским, и не Съездом, а конференцией, так как представительство от России было случайное и потому решения не могли быть обязательными для всей России. Работа на этой конференции очень много дала мне как в отношении ознакомления с положением рабочих по металлу, таки личного непосредственного знакомства с рабочим, - и воспоминания о днях этой конференции остались одними из лучших моих воспоминаний из этого периода моего пребывания в Москве. Много помогло этому-то обстоятельство, что я работал здесь и ближе сошелся с покойным Тепловым (романовцем), которого знал еще по Сибири. На конференции он был по мандату от петербургского профессионального органа рабочих по металлу. Мы с ним постоянно встречались, много говорили о конференции, о вопросах на ней поднятых, и я очень привязался к этому, так много думавшему о рабочем вопросе, так много отдавшему ему мысли и здоровья, человеку. Уже совсем больной, и серьезно больной, он аккуратно и точно приходил на все заседания и до конца просиживал в тесном душном помещении, где нам в силу полицейских условий пришлось работать. Скромный и очень толковый, он вскоре приобрел большое влияние на рабочих. Много он в это время думал и работал по вопросу о растущей в России организованности предпринимателей, о нарождающихся у нас трестах, о той опасности, какой это грозит неорганизованной рабочей массе, и много дельных мыслей и интересных фактов сообщил он нам по этому вопросу. Также аккуратно работал он вместе с нами (мной и еще третьим товарищем) над редактированием протоколов этой конференции, которые конференция поручила нам издать. Когда были опубликованы списки избирателей в 2-ую Государственную Думу по городу Москве и здесь начался период избирательных собраний, - я принял участие в этой кампании в качестве оратора. Мы, ораторы, являлись обыкновенно вечерами в определенный пункт, где концентрировались сведения об имеющих состояться собраниях и здесь мы получали повестки, дающие нам право пройти на эти собрания; так как по закону правом входа пользуется только избиратель данного участка, то мы и входили под фамилией какого-нибудь из избирателей; выступали же мы под другой, совершенно не существующей фамилией (присутствовавшим на собрании полицейским чином фамилия оратора, особенно социал-демократа, всегда заносилась в записную книжку). И опять-таки это у нас, меньшевиков, было организовано совершенно отдельно, независимо от большевиков; мы жили совершенно отдельной жизнью. Московский (большевистский) Комитет решил не вступать с кадетами в соглашения и опубликовал собственные списки выборщиков. В виду того, что черносотенной опасности в Москве не существовало, - мы, меньшевики, с чистой совестью могли принять участие в этой избирательной кампании, - и, хотя, понятно, наши речи и аргументация носили совершенно другой характер, нежели у большевиков, - но все, же у нас в Москве эта кампания не осложнилась такими неприятностями, как в Питере. Кадеты в эту избирательную кампанию уже не были в таком привилегированном положении, как при выборах в 1-ую Думу. Понятно, нас притесняли неизмеримо больше, но и их сильно стесняли; бюллетени и им нельзя уже было теперь печатать; и их избирательные собрания сплошь и рядом разгонялись. Впрочем, на счет собраний каких-нибудь законов, правил не существовало; все зависело от личности, характера, настроения полицейского чина, присылаемого на такое собрание; захочет чин, в духе он - и собрание беспрепятственно идет до конца, и довольно свободные речи сходят безнаказанно; не в духе полицейский чин, или же он получил нагоняй за допущенную им накануне свободу, - и он закрывает собрание после первой же фразы председателя. А раз нам на Пресне, как раз накануне дня выборов повезло; пристав, командированный на собрание в качестве надзирающего чина, явился совершенно пьяным. И такой пьяный надзор против обыкновения оказался в высшей степени благоприятным; мы говорили все, что угодно, избегая жупелов; а пристав, в общем, добродушно настроенный, только время от времени останавливал ораторов пьяными, всех смешившими репликами. Как известно, выборы в Москве окончились полной победой кадетов; социал-демократы получили очень мало голосов и это объясняется главным образом «разъяснительной» деятельностью Сената, лишившего рабочих избирательных прав. * * Ко дню открытая 2-ой Думы я приехал в Петербург и был в той толпе, что залила улицы, прилегающие к Таврическому Дворцу, и восторженными криками встречала депутатов оппозиции, а некоторых на руках носили. Всех депутатов толпа спрашивала, какой фракции? Смело и как то радостно отвечали толпе левые, - отвертывались, угрюмо отмалчивались правые; как тати, идущие на скверное, преступное дело, с опаской, тайком пробирались они в Дворец. И, несмотря на это, тяжелое произвели на меня впечатление и эта толпа, и эти проводы депутатов. Это не был народ, это не население Петербурга провожало депутатов, это не рабочий класс был на улицах, - нет! главным образом это была молодежь, учащиеся, интеллигенция, изредка рабочие и разночинцы. И настроение уже не было то, что при открытии 1-ой Думы. И в толпе, и в депутатах уже не чувствовалось той веры в себя, в свои силы, какая была тогда. Эти уже не шли с тем юношески приподнятым весенним настроением, с каким шли первые депутаты, эти уже пережили крушение 1-й Думы, уже видали, что проглотила Россия насилие; то, что казалось первым депутатам невозможным, эти считали неминуемым, - и шли они в атмосфере бурно справлявшей оргию реакции. И толпа, так ликующе их встречавшая, и она, казалось мне, чувствовала, что не на победу, а на заклание идут ее избранники... . Когда я по требованию товарищей приехал в Иркутск, чтобы лично поддержать свою кандидатуру, избирательная предвыборная кампания собственно уже кончилась: на завтра после моего приезда уже должны были быть выбраны выборщики в числи 80 человек, - а эти уже выбирают из своей среды члена Государственной Думы (как я уже говорил выше, в Иркутске выборы и в 1-ую и во 2-ую Государственную Думу происходили много позже нежели в остальной России). Хотя прошло уже около 1 лет с тех пор, как я скрылся из Иркутска и тщетно разыскивался местной полицией, но все, же свои избирательные права я сохранил; удалось мне это благодаря оригинальному «разъяснению» Сената; Сенат «разъяснил», что в городах, посылающих своего отдельного депутата в Государственную Думу (а таким был Иркутск), все те лица, на чье имя нанята квартира, обложенная квартирным налогом, сохраняют свои избирательные права даже в том случае, если сами не проживают в городе; города, не посылающие своего депутата в Думу, а выбирающие выборщиков в Губернское Избирательное Собрание, почему-то по разъяснению Сената не пользовались такой льготой. Благодаря этому я, хотя уже более 1 лет числился в неизвестной отлучке, но, наняв по доверенности чрез знакомого квартиру на свое имя, сохранил свои избирательные права и теперь имел возможность вторично выставить от имени Социал-демократического Комитета свою кандидатуру в Государственную Думу. При приезде я нашел для 1-ой стадии выборов (избрание выборщиков) соглашение всей оппозиции против черносотенцев. Оппозицией был составлен общий список выборщиков, и все обязались за него подавать голос; этим, понятно, была вполне обеспечена победа над черносотенцами: в действительности по всем 4-м участкам наш оппозиционный список прошел громадным большинством. При таком распределении голосов ясно было, что мы, социал-демократы имеем наименьше шансов на победу. Если бы дело дошло до выбора относительным большинством (по действующему закону, если в течение 2-х дней ни один кандидат не получает абсолютного большинства голосов, то на 3-ий день считается избранным получивший относительное большинство), то должен был победить кадет, так как все национальные организации решили подать голоса за кадетского кандидата: если же дело пошло бы на соглашения, то мы знали, что кадеты (они это заявили) предпочтут провести народника, а не социал-демократа. И только благодаря особо счастливому для меня стечению обстоятельств и ряду ошибок моих противников, мне удалось пройти относительным большинством. Прежде всего, кадеты потеряли голоса еврейской организации; евреям не понравился выставленный кадетами кандидат, так как он обнаружил недостаточное знакомство с еврейским вопросом и недостаточно определенно уяснил и себе и представителям еврейской организации свою позицию в Думе по отношению к этому вопросу; они потребовали, поэтому другого кандидата; кадеты отказали и тогда евреи решили отдать свои голоса мне, а когда кадеты уже выдвинули того кандидата, которого требовали евреи, было поздно. Затем, когда кадеты увидели, что у меня обеспечено относительное большинство и их положение безнадежно, - они хотели вступить в соглашение с народниками, но здесь повторилась та же история, что меж кадетами и евреями; кадетам не нравился выставленный народниками кандидат; они требовали замены его другим и тогда обещали отдать свои голоса; народники, полагая, что кадеты, прижатые к стене, все равно уступят, отказали, - и тогда кадеты решили погибнуть со славой. Таким образом я получил возможность пройти относительным большинством. Но и тут я едва не был побит кадетом; в последний момент нашлось несколько народников, положивших 6елые шары кадету; мы с ним получили равное число голосов и я прошел только по жребию. Но для укрепления своей кандидатуры мне необходимо было получить возможность изложить пред выборщиками свою программу и вообще побеседовать с ними. Это тем более было необходимо, что о программе и тактике нашей думской социал-демократической фракции не только у обывателей, но и у сочувствующих нам были самые неопределенные сведения; и это потому, что единственный источник, откуда обыватели могли получать сведения, были телеграфные отчеты С.-Петербургского агентства, очень кратко и очень извращенно передающего речи наших ораторов, да еще кадетская или кадетствующая печать местная и отчасти столичная, частью по незнанию, частью сознательно муссирующая против нас. Но как устроить это собеседование? Нелегально собрать 80 человек и тем паче выборщиков невозможно было, да они и. не пошли бы на нелегальное собрание; явиться на собрание выборщиков под чужой фамилией тоже нельзя было, так как на такое собрание пропускают только выборщиков, по именным повесткам, контроль ведет полиция, и за происходящее на собрании ответственен взявший разрешение, а подводить его нельзя было. Мы нашли такой выход: взято было разрешение на собрате выборщиков; собрание должно было произойти в помещении, откуда был замаскированный тайный ход, мне известный, а полиции неизвестный; следовательно, отступление было обеспечено; нужно было, только пройти на собрание. На самом собрании по закону полиция не имеет права присутствовать; роль ее ограничивается контролем за тем, чтобы прошли только выборщики. Когда все выборщики уже были в сборе, я, быстро пройдя с парадного хода в подъезд, где меня уже ждали человек 8-10 выборщиков, - вмешался в их группу, и мы все вместе подошли к приставу, сидевшему для контроля у входа в зал, и все вместе предъявили ему именные повестки (получил я свою через товарищей); пристав брал повестку, проверял по имеющемуся у него списку выборщиков, значится ли такой в списке, делал в нем отметку, - и выборщик проходил. Делал ли он это чисто механически или может специальных обо мне инструкций не имел, так как администрация не могла предположить, что я явлюсь на собрание, но как бы, то ни было, я беспрепятственно прошел под своей фамилией. Собрание было открыто; каждый из нас 3-х кандидатов успел произнести речь, в которой изложил свою программу; уже начались дебаты, когда мне дали знать, что в полиции известно о том, что я на собрании, и что по телефону идут усиленные переговоры по этому поводу меж приставом, полицмейстером и губернатором, - а через несколько минут пристав вызвал устроителя собрания и потребовал от него разрешения зайти на несколько минут в зал заседания, чтоб передать мне непременное желание г-на полицмейстера немедленно переговорить со мной. Пока шли переговоры меж устроителем и полицией, я через потайной ход благополучно скрылся. История об этом таинственном моем появлении и исчезновении, напечатанная на следующий день в газетах, возбудила сильный интерес к выборам; полиция особенно энергично начала искать меня; квартира, нанятая на мое имя, была осаждена шпионами; в полиции говорили, что меня из Иркутска так не выпустят; что отсюда я уеду или в Таврический Дворец, или же в Якутск.
Как известно, в 1-ую Думу в Иркутске не успели произвести выборов, - Думу разогнали до дня выборов, - и это был 1-ый раз, когда в Иркутске появился «неприкосновенный» депутат, - и потому, когда я после выборов явился в избирательное собрание, то полицейские и казаки с большим любопытством разглядывали эту новую для них разновидность обывателя, которого раньше приказано было изловить, а сейчас нельзя трогать. Представления о степени и размере моих полномочий, моей власти были самые неопределенные, самые туманные; собравшаяся в здании Управы толпа пожелала тут - же устроить народное собрание, - и, когда городской голова нам этого не разрешил, публика не могла этого понять. Ко мне начали являться депутации с наказами и частные лица со всевозможными просьбами. Переданы были мне наказы от рабочих депо, от еврейской национальной организации, от магометан, от общества извозчиков. Явился один старик-кучер и слезно просил распорядиться, чтобы хозяин уплатил ему следуемую по условию сумму; мировой судья несправедливо, мол, решил дело в пользу хозяина; явилась депутация от учеников семинарии с приветствием по случаю избрания и просьбой похлопотать о их товарище, исключенном из 8-го класса за прочитанное на вечере стихотворение и т. д. Из почти одиночного заключения, в котором я находился последние дни, - я попал в самый водоворот жизни... * * Понятно, особенно негодовали черносотенцы, что избран не только социал-демократ, но к тому, же еще и еврей. Это они считали позором для города. Вечером в день моего избрания они устроили собрание в своем клубе, на котором говорили негодующие речи и открыто призывали к тому, чтобы не допустить до такого позора, и не дать мни выехать из Иркутска. Об этом мни дали знать, и советовали быть осторожным. Дружина эта, по его словам, прослышав о черносотенных угрозах, решила учредить около моей квартиры постоянный вооруженный патруль. И те нисколько дней, которые я провел в Иркутске, патруль этот неизменно дежурил. * * Еще об одном деле я решил поговорить с губернатором. С самого того момента, как о моем избрании начали говорить, как о возможном событии, моими противниками был выдвинут жупел погрома, которым в случае моей победы могут ответить черносотенцы, раздраженные избранием еврея. Но это был только жупел; никаких серьезных связей с населением черносотенцы не имели; в лучшем случае они могли собрать накипь из хулиганов и темных людей, всегда имеющуюся во всяком большом городе, а в особенности в Иркутске, - но от первого, же мановения губернаторского пальца вся эта орда рассеялась бы; понятно, картина резко изменилась бы, если бы администрация выступила в роли покровительствующего органа; в таком случае всегда и везде легко можно повторить белостокскую или седлецкую трагедию. С избранием моим слухи эти стали энергичнее и среди евреев-обывателей заметно было некоторое беспокойство. Поэтому я решил обратить внимание губернатора на эти слухи. Я сказал ему, что считаю черносотенцев очень слабой и ничтожной организацией, и возможным считаю у нас (как и во всей России) погром, только лишь при благосклонном к тому отношении полиции. - «Могу ли я успокоить евреев, что Вы сделаете все от Вас зависящее, чтобы предупредить погром?» - спросил я его. И он дал мне на этот счет самые серьезные заверения. * * Через 2 дня пришел ответ от генерал-губернатора на мое ходатайство о разрешении собрания. Ответ был очень лаконический и очень двусмыслен; он гласил: «отнестись по закону». В Иркутске в то время было военное положение и, следовательно, всякое распоряжение было законно. Во всяком случае, мне заявили в полиции, что я должен подать ходатайство о собрании, назначив его не ближе, чем через 3 дня. А там видно будет. Ясно было, что надежды на благополучный исход было мало, а пока я терял время.. Я знал, как много работы у товарищей в Госуд. Думе, как там нужны силы, - и потому решил не ждать, а уехать, устроив только на вокзале при проводах собрание рабочих. Чтобы полиция нам не мешала, я пустил в газеты слух, что уезжаю на завтра утром скорым поездом, а железнодорожным рабочим, просившим дать им возможность проводить меня, дал знать, что уезжаю вечером, чтобы приходили на вокзал. Рабочих собралось много, почти все рабочие депо; пришли многие из города, все, кого успели оповестить, и мы устроили демонстративные проводы с чтением наказов от рабочих, революционными речами, пением революционных песен. Пока полиция и жандармерия хватились, пока явились войска, - ударил 2-й звонок, и только при ударе 3-его звонка жандармы и солдаты бросились разгонять провожавших. Но за то на соседней станции Иннокентьевской, где тоже имеется большое железнодорожное депо, и где рабочие вместе с служащими тоже хотели устроить демонстративные проводы, - я встретил на вокзале только жандармов и солдатские пикеты: из Иркутска по телеграфу успели дать сюда знать о состоявшейся демонстрации и власти приняли меры. Удалось мне еще устроить рабочее собрание на станции Зима, где имелась социал-демократическая группа и большое железнодорожное депо. Предупрежденная из Иркутска о моем приезде, администрация и здесь к приходу моего поезда заняла войсками вокзал; но я сошел с поезда, сошел незаметно с противоположной вокзалу стороны (чем привел в необыкновенное замешательство агента, прикомандированного ко мне из Иркутска) и отправился на квартиру к товарищу. Сюда мы позвали членов группы и некоторых рабочих, и мы с ними беседовали о деятельности Гос. Думы и об основных задачах нашей Думской политики. К 4 часам дня, когда работы в депо кончились, мы тут же, у вокзала (депо помещается рядом с вокзалом) устроили открытое рабочее собрание. Как раз к этому времени подошел скорый поезд, и мы всем собранием двинулись к вокзалу и повторили здесь Иркутские проводы. На станции Тайга к нам в поезд сел жандармский полковник, не знаю, специально ли для сопровождения меня или же случайно, но он был отлично осведомлен о всей моей биографии и делился своими сведениями с пассажирами, а те мне передавали: ехал он с нами вплоть до самой Москвы; жандармы еще больше пучили глаза и еще усерднее следили за тишиной и порядком. В Москве я пробыл только несколько часов и выехал в Петербург. . Я не намерен здесь писать историю 2-ой Государственной Думы я хочу только рассказать вкратце о некоторых своих личных впечатлениях, наиболее характерных, о некоторых воспоминаниях, особенно сильно врезавшихся в мою память; для подробного, более исторического описания у меня здесь нет места, да это и не подходит под характер данной статьи. Приехал я в Думу в начале апреля, - Дума, значит, существовала уже более месяца, и все имело вид, точно работа в полном разгаре; почти все комиссии были уже сорганизованы и во всех их работа кипела. Но сразу, же здесь, в Думе еще в боле резкой форме, нежели вне ее, я почувствовал, как все ее работы, всю ее жизнь давит, гнетет тот самый кошмар грозящего ей разгона, который ощущался во всей стране. Во всей стране разгона Думы ожидали со дня на день и, помню, всю дорогу из Иркутска в Петербург я не знал, удастся ли мне доехать, а в самой Думе призрак грозящего разгона то резче, то слабее, но все время витал, давил, и на все клал свою печать. Неуверенность в своем существовании, а отсюда и нерешительность, - вот главный лейтмотив ее поведения. Всякое более или менее резкое движение, всякий боле энергичный порыв, - сейчас же вызывал окрик регулирующего работы Думы кадетского большинства, - и боязливое оглядывание на настроение, впечатление от сего в сферах. Точно постоянно стоял пред ее глазами образ преждевременно загубленной 1-ой Думы и говорил: «Так и с вами будет!» И потому это не были смелые, дерзкие своей наивностью депутаты 1-ой Думы, с юношеской самоуверенностью речами атакующие произвол, с юношеской наивностью верящие в силу своих речей и свою неприкосновенность, - нет, эти в большинстве преждевременно постарели от политической мудрости, почерпнутой из переживаемого периода Столыпинского военно-полевого правления, - и изверились они и в свою неприкосновенность, и в силу революции их родившей; червоточиной ело их мужество сознание неизбежности того, что первым депутатам казалось невозможным, - и не видели они кругом ничего, что могло бы предупредить грядущую участь.
Первые депутаты этого еще не замечали; но судьба 1-ой Думы отрезвляюще подействовала на 2-ую, и последняя яснее, без самообмана, без иллюзии смотрела и видела истинное положение дел. Она видела; что ничем не ответила страна на разгон 1-ой Думы, ничем не ответила на военно-полевой режим и знала она, что ничем не ответит страна и на разгон 2-ой Думы. А главное, всем было ясно, что эта истина, известная всем, известна и П. А. Столыпину; он знает, что в любой момент может ее разогнать; а раз он может, он это сделает; и раньше или позже, но, несомненно, он удалит из государственного тела России эту, сидящую в нем занозой, Думу с ее 200 депутатами-социалистами. И вот, в такой атмосфере надо было работать. Разно реагировали на это разные партии. Правые, желая ускорить развязку, главным образом старались провоцировать Думу на какие-нибудь резкие движения, резкие выходки. Очень ничтожные и в количественном и в качественном отношении, они не только не годились для какой бы, то ни было серьезной государственной работы, - но и на провокацию их не хватало. Запевалой был у них Пуришкевич, а подголосками Келеповский, Шульгин, гр. Вл. Бобринский: у нас из этого правого крыла еще не дифференцировались умеренно-правые; октябристов тоже еще с трудом можно было отличить от Пуришкевичей. В интересах этой именно провокации они все время старались вызвать Думу, т. е. кадетское большинство на разговоры об отношении к террору. Мы, социал-демократы, смотрели опасности прямо в глаза; мы видели ее, знали ее неизбежность, и потому не устраивались в Думе на долгие квартиры; но, не стремясь вызвать лишних столкновений, мы старались использовать наиболее продуктивно занимаемую нами позицию. Мы знали, что разгон Думы неминуем, но это обстоятельство мы не считали возможным учитывать в смысле приспособления нашей тактики к желаниям правительства, чтобы таким путем по возможности продлить дни жизни Думы; или, же в понижении, в сокращении для этого тех лозунгов революции, которые выдвинула демократия. Нет, мы считали необходимым ставить эти лозунги во всем их объеме здесь, пред Думой, правительством и народом и, несмотря на понижение революционного тонуса в стране, - продолжать здесь в Думе непримиримую борьбу с этим безответственным правительством. Мы считали, что этой тактикой мы наилучшим образом служим цели: «беречь Думу!», так назойливо на всех перекрестках провозглашаемой и пропагандируемой в то время кадетами; если эта Дума может быть сбережена, то она лучше всего будет сбережена именно этой нашей тактикой, при помощи которой мы конденсируем в Думе все народные чаяния, народные желания; при помощи, которой мы только и можем приблизить Думу к народу, этому единственному источнику, откуда может прийти сила способная сберечь Думу. Самым гибельным образом этот, вечно висящий над нами Дамоклов меч предстоящего разгона, повлиял на тактику самой сильной, руководящей всей Думской деятельностью кадетской фракции. Именно этот призрак грозящего разгона и постоянное желание предупредить его, заставляли кадетов все больше принижать свои требования, сокращать свои лозунги, все больше приспособлять свою тактику к желаниям и настроению правительства и потому, лишая последнюю ясности и определенности, лишало их, а, следовательно, и всю Думу in corpore, симпатии и доверия демократии. В этом хаосе рушащихся норм, каким характеризуется период революции, кадеты убедили себя и старались убедить других, что нашли общий язык для Думы и правительства, - и что этот язык законность. Строго следили они, чтобы Дума не сошла с этого пути; но чем дальше, тем больше эта строгость проявлялась только по отношению к тактике левых; чем дальше, тем постепенно все больше сбивались они сами с этого пути вправо. Особенно резко и ярко обнаружилась эта губящая их тенденция в знаменитом закрытом заседании о контингенте новобранцев, когда они, терроризированные скандальничающими Пуришкевичами и министрами, заставили своего председателя Головина в течение часа изменить свое решение и увидеть в словах тов. Зурабова именно то, что правые хотели в них видеть. Зурабов сказал, что русская армия терпела, и будет терпеть поражения, пока у нас будет самодержавие. Даже, сама по себе взятая, эта фраза не только не заключает в себе ничего обидного для армии, но наоборот - она резко подчеркивает, что причина поражения лежит не во внутренних ее свойствах, - а исключительно во внешних условиях, в той атмосфере, в которой заставляет ее жить и воевать самодержавие; и все это Зурабов еще более ясно развивал в своей речи. Так посмотрел на эту фразу и председатель Головин, да иначе и нельзя было на нее смотреть. Но Пуришкевичи ухватились за нее; они начали кричать, голосить и, поддержанные министрами, сорвали заседание. И кадеты позорно капитулировали перед скандальниками; они головой выдали им своего председателя; заставили его признать ошибочным свое первое толкование и правильным толкование Пуришкевичей; они заставили его применить к тов. Зурабову дисциплинарную миру и даже извиняться пред военным министром . . Начиная с этого заседания, кадеты еще резче и определеннее пошли по пути приспособления. * *
Понятно, с течением времени и из нашей среды выработались бы дельные практики, хорошие ораторы, но пока что условия борьбы были тяжелые. С целью помочь фракции ориентироваться среди очень сложных и серьезных вопросов Думской деятельности, при ней были образованы комиссии, в которых Центральный Комитет Партии (тогда меньшевистский) пригласил целый ряд сведущих лиц; вместе с этими сведущими лицами члены фракции изучали вопросы, подлежащие обсуждению Думы, вырабатывали ту или другую программу деятельности в думских заседаниях и комиссиях. Но организация этих комиссий оставляла желать многого и по составу их, и по интенсивности работы, - и объясняется это тем, что и выбирать «сведущих лиц», и работать приходилось нелегально, под вечным страхом облавы, ареста, считаясь с условиями конспирации. Но главное, что мешало работам, это распри меж большевиками и меньшевиками. Большевиков у нас было очень мало, 13-14; с ними, руководимыми тов. Алексинским, отношения установились возмутительные; заседания нашей фракции мы сплошь и рядом убивали на самые мелочные, самые бестолковые споры; например, спору о том, что меньшевики тратят неэкономно деньги фракционной кассы, посвятили почти два заседания, - и это в то время, когда мы, обстреливаемые со всех сторон, стояли в Думе, на которую правительство; избрав мишенью именно нашу фракцию, готовилось сделать последний натиск. Очень вредно отразилось на деятельности нашей фракции и то обстоятельство, что в конце апреля, вскоре после моего приезда уехало на Партийный Съезд несколько человек и в том числе тов. Джапаридзе и Церетели, самые выдающиеся у нас работники, на которых до сих пор главным образом лежало руководство фракцией. С ними уехал и тов. Алексинский и многие другие, и пробыли они почти вплоть до разгона Думы, а некоторые таки не успели вернуться. Это было очень вредно не только в том отношении, что лишило нас наших лучших ораторов; но еще и потому, что благодаря этому мы оставшиеся были сильно стеснены в общей нашей политике; ожидая их со дня на день, мы не считали себя вправе делать какие-нибудь серьезные изменения в наших тактических приемах, хотя обстоятельства этого иногда и требовали. * * Не раз такое посещение депутата кончалось вмешательством полиции; прослышав об ожидаемом визите депутата, полиция усиливала надзор за данным заводом или районом; если собрание предполагалось в роще, поле, лесу, - то с раннего утра там рыскали патрули и, когда открывали такое собрание с депутатом, - его немилосердно разгоняли, «зачинщиков» арестовывали; депутата, положим, только до установления личности. Разрешения на открытые, легальные собрания нам, социал-демократам со времени моего приезда никак не удавалось получить; я пробовал добиться разрешения на имя «примыкающего» - и тоже получился отказ. Связывали нас с рабочими запросы и добывание материалов для обоснования этих запросов. По поводу запроса о притеснениях профессиональных союзов мы вступили в сношения с многими столичными и провинциальными профессиональными союзами: вопрос о безработных вызвал более близкое знакомство с организацией безработных. По поводу избиения рабочих на заводе Чешера (на Выборгской стороне) мне, помню, для ознакомления с обстоятельствами этого дела пришлось раза 3 съездить в Выборгский район, побывать на собрании текстильного союза. Таким образом, в процесс самой работы, самой защиты нами в Думе интересов рабочего класса вырабатывалась, крепла наша непосредственная, живая связь с рабочими. Кроме полицейских условий, заставляющих нас обставлять наши сношения с рабочими по возможности конспиративно, - сильно мешали развитию этих связей опять-таки наши дрязги меж большевиками и меньшевиками; и мешали как тем, что часто на эти рабочие «собрания с депутатами» они выносились во всем своем обличии мелких подсиживаний, мелочных полемических выпадов, - так еще и тем, что большевистская пресса, довольно сильная в Петербурге, упорно вела кампанию против нашей думской фракции, проводившей в своей деятельности, понятно, тактические принципы меньшевиков (как я уже сказал, громадное большинство нашей фракции было меньшевистское). * * Вначале по поводу каждой такой телеграммы у нас начиналось большое смятение; составлялся текст телеграммы к премьер-министру, к военному министру; телеграмму подписывали человек 10 -15 депутатов, затем 2 - 3 отправлялись, лично поддерживать ходатайство. Но после и к этому привыкли... Мы все это проделывали, но как дело привычное, обыденное..
И еще один раз обращался я к министру с ходатайством. Я получил телеграмму от евреев Иркутска; извещающую меня, что генерал-губернатор Селиванов энергично принялся за выселение их; выселяет старых, молодых, только приехавших и давно живущих; а евреям, имеющим даже для него несомненные права жительства в Иркутске, он не разрешает выезжать для лечения на курорт Усолье, находящейся недалеко от Иркутска. Просили ходатайствовать о приостановке выселения и разрешении больным лечиться в Усолье. Столыпин направил меня к тов. министра Макарову. У Макарова в приемной я застал несколько человек депутатов и все левой и крайне левой, и все они были с аналогичными ходатайствами: о прекращении преследований профессиональных союзов, об освобождении арестованных, прекращении выселения евреев и т. п. Товарищ министра нас всех любезно принимал, кое-что кое-кому обещал, кое-что приостанавливал, облегчал, - а в стране все шло по старому, и на смену этих единичных случаев бесконечным потоком лились новые притеснения, новые насилия. * * Тут же в этом заседании произошел любопытный инцидент, заслуживающий упоминания. Кадеты, как известно, из соображений глубоко политических, решили голосовать за закон, т. е. дать правительству солдат. Мусульмане от имени мусульманского населения, польское коло от имени польского народа тоже кладут к подножию столыпинского престола свою дань патриотизма, заявляя, что и они голосуют за закон. Очередь, как будто, за евреями. Очевидно, желая позондировать меня, один из евреев-кадетов подходит ко мне и полушутя, полусерьезно говорит: «Если бы вас здесь не было, мы бы сделали такое же заявление от имени евреев». И я поспешил его заверить, что сейчас же после такого заявления - я заявил бы протест от имени еврейских рабочих и еврейской демократии. И, не желая создавать скандала, евреи-кадеты воздержались от «патриотического» заявления. Против заявления польского коло - от имени польских рабочих, как входящих в состав нашей партии, протестовал один из членов нашей фракции. Кроме писем с просьбами, советами, получал я в достаточном количестве и письма другого рода: анонимную корреспонденцию, полуграмотную с ругательствами и угрозами, напоминанием о судьбе Герценштейна и Иоллоса. Но эти анонимные плевки из-за угла были не только моим уделом; особенно много получал их в нашей фракции Зурабов после инцидента с «оскорблением» армии в закрытом заседании. Помню, когда я ему раз показал одно особенно грубое анонимное письмо, - он вынул из кармана целый пакет писем, записок, - и я был поражен той изобретательностью, виртуозностью ругательств, которые грязным потоком лились из этой корреспонденции. * * И еще крепче держатся они своей тактики; они и солдат дали правительству, а теперь и еще один подарок ему сулят: бюджет утвердят, деньги дадут! И так, солдаты и деньги есть, что еще нужно правительству?! Но кадеты очень наивно судили. Столыпину этого уже мало было. И, когда Дума вплотную подошла к работе, когда при обсуждении бюджета она слишком начала интересоваться деталями государственного хозяйства, когда она его начала уже слишком тревожить запросами, - ему это надоело и он решил, что довольно терпеть, нужно положить конец. Но только разогнать Думу - этого ему уже тоже мало. Нужно так устроить, чтобы вообще обезопасить себя от повторения такого скандала, как Дума с 200 депутатами-социалистами. Сенатские, губернаторские, полицейские и прочие д. «разъяснения» - очевидно, недостаточны, не помогают; нужно средство порадикальнее. И средство найдено! Мастер по части выборов, товарищ министра Крыжановский средство нашел; недаром он натаскан на выборах! Средство верное, радикальное: нужно только несколько изменить избирательный закон. Почему этого не сделать? Народ безмолвствует и, несомненно, будет безмолвствовать. Что же мешает? Неужели то обстоятельство, что только недавно Столыпин настойчиво и громко провозгласил: закон это все, закону он будет всегда и все подчинять в стране, право выше силы и т. п. хорошие вещи, а такое изменение как будто противоречить закону, ясно говорящему, что изменить избирательный закон можно только с согласия законодательных учреждений?! Но ведь эти хорошие вещи только принципы, которые можно провозглашать, но к руководству они отнюдь не годны. В военную организацию при Петербургском комитете, нашей партии проникает провокатор; он подговаривает организацию послать к нам, на квартиру нашей фракции депутацию из представителей от солдат всего Петербургского гарнизона для вручения нам наказа. Час, когда эта депутация должна к нам явиться, известен полиции и выбран именно такой, когда у нас происходят заседания фракции и, следовательно, во фракции много депутатов. И обо всем этом мы депутаты не оповещаемся. Задача состоит в том, чтобы полиция застала вместе, в одном помещении депутатов и солдат из различных воинских частей Петербурга; а из этого мастера уже состряпают именно то, что нужно: совместное заседание нашей фракции с представителями солдат для военного заговора. Днем нападения назначен вечер 5 мая. Было уже 8 часов вечера. Помещение фракции имело свой обыкновенный вид настоящей людской толчеи, какой оно приобретало в дни, назначенные для заседаний фракции. В эти дни депутаты, живущие на окраинах города или за городом, назначали здесь свидания; сюда приходили корреспонденты газет за получением сведений, ходоки из провинции отыскивали здесь своих депутатов или же старались раздобыть билеты на заседания Думы; товарищи из районов приходили в эти дни сюда просто узнать, что слышно? По всем комнатам толпился народ. Солдата ни одного не было. (Почему? Это когда-нибудь будет известно. Министр юстиции утверждал, что полиция опоздала на 5 минут. Во всяком случае, факт тот, что солдат не было, - значит, весь план не удался). В это время ворвалась полиция, заняв предварительно все выходы. Они ворвались сразу, с револьверами в руках, быстро рассеялись по всем комнатам, заняли все двери и, объявив всех арестованными, приступили к обыску задержанных. Первые депутаты, ошеломленные всей этой историей, пробовали было протестовать, но городовые, приставив револьверы к их груди, заставляли их поднимать руки вверх и опорожняли карманы. Так им удалось обыскать только четырех депутатов, задержанных в передних комнатах; когда же подошли мы все из задних комнат, человек 35, - мы заявили приставу, что обыскивать себя не позволим; при попытках полиции - окажем самое серьезное сопротивление, так как мы, как депутаты, неприкосновенны. Кроме того мы потребовали, чтобы немедленно явился представитель судебного ведомства, а до тех пор мы и в квартире, не позволим производить обыск. Не желая доводить дело до скандала, пристав нас оставил в покое, а занялся обыском и установлением личности всех посторонних, задержанных в нашей квартире; нас же распорядился не выпускать из квартиры, пока мы не разрешим, обыскать себя. А так как мы обыскивать себя не позволяли, то фактически мы оказались арестованными. Мы начали звонить по телефону к министрам, прокурору, сообщая об учиняемом над нами насилии и требуя немедленного прибытия судебного чина, так как полиция самоуправствует. Но министры сказались отсутствующими, и только в 12 часов ночи явился прокурор судебной палаты Камышанский (Нынешний Вятский губернатор), несомненно, бывший душой всего этого предприятия. Камышанский прежде всего объявил нам, что, так как все это дело обыска ведется в порядке охраны, то он, прокурор, тут ни при чем. На наше заявление, что наше задержание и обыск незаконны, как нарушающие нашу «неприкосновенность», - он ответил, что неприкосновенны мы лично, но не наши карманы, и что поэтому полиция имеет право обыскать нас, - а мы лично не задержаны, и как только позволим себя обыскать, немедленно будем освобождены. Но мы заявили, что остаемся при своем понимании того, что означает наша «неприкосновенность» и будем защищать ее до последних сил, считая это своим долгом по отношению к избирателям и Думе.
Полиция попробовала приступить к обыску квартиры и выемкам; собрав в нашей канцелярии бумаги со стола, пристав их опечатал, но, когда городовой хотел унести их, один из депутатов, вошедший в это время в канцелярию, вырвал пакет у городового, унес его в комнату, где мы все собрались, положил на стул, сам сел сверху и говорит: «это моя личная собственность, без судебного чина вам добровольно не отдам, берите силой!» А другой депутат, когда городовые хотели осматривать ящики стола, сел на стол и тоже заявил, что без судебного чина не позволит обыскивать ящиков. Пристав, увидав, что дело принимает серьезный оборот, уступил, велев только городовым следить, чтобы ничего не уносили из комнат. Мы, депутаты, собрались все в одну комнату. Сюда же начали собираться городовые, выстраиваясь вдоль стен; у дверей столпилось несколько подозрительных лиц в штатском и, несмотря на наши протесты, преспокойно рассматривали нас. Попробовали, мы, было устроить заседание, - но оно не клеилось при таких свидетелях, да к тому, же мы все страшно устали. Более уставшие постепенно кое как, примостившись, кто на стульях, кто на столе, кто просто сидя, засыпали. Только к 4 часам ночи вернулся Камышанский. Министр, говорит он, одобрил действия полиции. Но и мы по прежнему твердо стояли на принятом нами решении. Тогда он вдруг меняет тактику; требует у пристава ордер, по которому тот явился к нам с обыском, рассматривает его и заявляет, что он ошибся; что, судя по ордеру, полиция явилась не в порядке охраны, а потому дело подчинено ему и он немедленно берет его в свои руки; На следующий день мы внесли срочный запрос правительству по поводу этого ночного нашествия полиции. Это было как раз то заседание, которое правые избрали для своего провокационного вопроса правительству по поводу провокационного же террористического заговора на жизнь Николая II. Вся левая, предупрежденная об имеющей состояться патриотической манифестации, демонстративно отсутствовала. Вернувшись в зал, мы поставили наш запрос. Присутствовавшие в Думе Столыпин и Щегловитов согласились сейчас же дать разъяснения и заявили, что по имевшимся у них агентурным сведениям у нас должно было состояться совместное заседание фракции с солдатами для организации военного заговора; а солдат не застали, так как полиция, мол, опоздала на 5 минут... Поддержанный кадетами, запрос наш все же был принят Думой. * * И потому делу был дан ход. Но все делалось в глубокой тайне, обставлялось глубокой конспирацией. И, когда все было готово, новый избирательный закон выработан - приступили к последнему акту. Думе внезапно было поставлено категорическое требование выдать всю нашу фракцию из 55 человек. И в то время, как Столыпин ставил это требование Думе, - полицейские отряды, не дожидаясь думского разрешения, производили обыски у всех нас на квартирах, не стесняясь нашим отсутствием. Расчет у Столыпина был правильный: если Дума уступит и выдаст всех социал-демократов, то левая вся сразу ослабеет, а главное, Дума благодаря такому решению настолько потеряет в мнении и уважении народа, что станет послушной игрушкой в руках правительства. И действительно, кадеты отказали правительству в немедленной выдаче. Назначается комиссия для рассмотрения правильности обвинений, взводимых правительством на нашу фракцию. (7) Столыпин ждет; ему так было бы выгодно, если бы думская комиссия признала эти обвинения правильными, что для этого стоит обождать день, другой. Но через день выясняется, что ответ комиссии будет неблагоприятен для правительства, - и ждать уже нет смысла. Я ночевал у знакомых и потому избег ареста. Еще несколько дней прожил я в Петербурге, ожидая событий. Ничего. Все течет своим чередом, все тихо, спокойно. Страница истории России перевернулась. И я уехал заграницу. Виктор Мандельберг.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Отсюда и название сторонников Ленина большевики; мы же, оставшиеся в меньшинстве, получили название меньшевики. Но интересно то, что и это незначительное большинство было не настоящее. Это было не большинство съезда, а большинство решающих голосов. Большинство же съезда было против Ленина, так как почти все совещательные голоса (Аксельрод, Засулич, Старовер, Кольцов, Штейн и т. д.) были с меньшевиками. Кроме того Бунд был тоже тогда настроен против Ленина, но ко времени решения этих вопросов Бундовская делегация уже покинула съезд. 2. Как известно, Плеханов очень скоро после съезда разошелся с Лениным и стал одним из главных лидеров меньшевизма 3. Меж прочим для постановки этой типографии из заграницы был послан впоследствии к нам в помощь, получивший такую известность в литературе, провокатор Николай, Золотые Очки (Н. Доброскок), выдавший всю группу. Но я в то время уже уехал из Петербурга. 4. Все это написано задолго до разоблачения Азефа и Азефщины. Кое-какие разъяснения относительно гапоновской смерти и жизни, связанные с этими разоблачениями, только подтверждают высказанные здесь предположения. 5. Около 60 - 70 политических ссыльных, желая протестовать против незаконных и бессмысленных притеснений Иркутского генерал-губернатора Кутаисова, собрались в г. Якутске, заперлись в доме некоего Романова (отсюда и их название Романовцы), забаррикадировались там; чтобы их взять, администрации пришлось повести правильную осяду, обстреливать дом. Причем с той и другой стороны были убитые. 6. На этом собрании председательствовал я. Это был мой председательский дебют. 7. Подробно эти последние дни 2-ой Думы описаны мной в сборнике «Тернии без роз».
|